
Рождественский Всеволод Александрович
(1895 — 1977)И сам Всеволод Александрович, и его коллеги и соратники называли его «свидетелем неповторимых лет, наследником надежд, участником свершений», «свидетелем века». Так оно и было — его отец преподавал Закон Божий и был священником гимназической церкви в Царскосельской Николаевской гимназии, где директором был лучший из наставников — известный поэт Иннокентий Анненский и которую в 1906 году окончил одноклассник его брата эксцентричный «конкистадор» Николай Гумилев, с которым он скоро станет соратником по «цеху поэтов» в Петербурге и даже будет входить в число «младших» акмеистов. А скоро уже пробежит по людям и судьбам 1917 год, и Всеволод неожиданно весной 1918 года окажется добровольцем в Красной армии, будет принимать участие в защите Петрограда от Юденича, далее продолжит службу в учебно-опытном минном дивизионе в звании комвзвода, в 1919 году поступит на службу в Комиссариат земледелия и продолжит служить добровольцем в Красной армии, плавать на тральщике, вылавливавшем мины в Неве, Ладоге и Финском заливе. В 1920 х и вовсе состоял секретарем Петроградского отделения Всероссийского союза поэтов, в 1930 х путешествовал по стране в составе литературных бригад, посещавших с выступлениями крупнейшие стройки первой пятилетки. Сменились времена и эпохи, лишились родины и жизни многие из тех, с кем еще недавно разрабатывал «поэтику» и «экзотическую линию» акмеизма поэт, мечтавший о «гумилевских» путешественниках, пиратах, корсарах, санкюлотах и населявший ими свои недавние стихи, настали времена, вызывающих теперь ужас пятилеток, а поэт Всеволод Рождественский фантастически вписался во все повороты истории страны.
Родился Всеволод в Царском Селе в благополучной, любящей семье. В детстве были летние выезды семьи в село Ильинское Тихвинского уезда, где они владели небольшим домом, находившемся на опушке дремучего новгородского леса, великолепное домашнее, а потом и гимназическое образование сначала в Царскосельской гимназии, а потом в Петербургской классической гимназии, когда семья в 1907 году переехала в столицу. После окончания гимназии в 1914 году поступил на историко-филологический факультет Петербургского университета , но началась Первая мировая война, и в 1915 году он призван в армию, зачислен в Запасной электротехнический батальон рядовым на правах вольноопределяющегося, а в январе 1917 года получил звание прапорщика инженерных войск. В конце 1924 года вернулся в университет, окончил его в 1926 году, при этом одновременно посещал Государственный институт истории искусств.
Как совместились в судьбе юноши Рождественского еще недавнее восторженное, по его воспоминаниям, «постижение латыни», вначале «кропотливое и довольно нудное», но уже в старших классах «мерное и плавное звучание античной фразы увлекало меня за собой, как неудержимый ток величественной реки», и «обращение к теме строительства социализма», прославление послереволюционных пятилеток в агитпоездах, — вопрос сложный. Так же как и, казалось бы, несовместимое — воспоминание о том, что «настолько увлекся римскими поэтами, что немало перевел историй из Овидиевых «Метаморфоз» и «Посланий», решительное «Пушкин и античность — две дороги моей юности. Им я не изменю до конца своих дней», и уже в 1918 году совместная работа в издательстве с «буревестником революции» Максимом Горьким, у которого в семье он «был частым посетителем».
Небольшая подсказка всего происходящего вокруг Всеволода Александровича, возможно, находится в судьбе и биографии его жены с 1927 года Ирины Павловны Стуккей, потомка дворянских родов и человека высокой культуры и тонкого вкуса, искусствоведа, сотрудника многих знаменитых музеев Петербурга. Всегда готовая прийти на помощь, что-то устроить, кого-то поддержать, супруга поэта до конца жизни притягивала к себе самых разных людей, утверждая, что полностью разделяет с мужем такое отношение к жизни и людям. Они принадлежали к тому поколению, которое с детства впитало чувство истории и мировой культуры и которому был дан дар просветительства. Это была плеяда старой ленинградской музейной и писательской интеллигенции, перенявшей от своих учителей любовь к своему делу и чувство товарищества. Многие из них испили полную чашу невзгод предвоенной поры, пережили трагедию войны и блокады, но при этом сохранили и стойкость, и душевную чистоту, и преданность друзьям. Может быть, этот уникальный и далеко не всем доступный рецепт и есть ключ к жизненной гармонии поэта, пригодный ко всем временам?
Сам поэт начиная с 1927 года каждую осень проводил в Коктебеле, в доме Максимилиана Волошина, еще в начале XX века ставшего пристанищем людей искусства и науки, в
В годы Великой Отечественной войны Всеволод Александрович был фронтовым корреспондентом, сотрудничал в армейских газетах, воевал на Ленинградском, Волховском, Карельском фронтах за освобождение родного города, участвовал в прорыве блокады Ленинграда, награжден боевыми наградами.
В итоге оказалось, что поэт, литератор Всеволод Рождественский не пропустил ни одного события в жизни своей страны, был действующим лицом и неравнодушным участником всего, что выпало на долю ее народа. И при этом остался в памяти всех, кто с ним близко общался и знал его, как поэт «солнечный, радостный и удивительно разумный. Никакие шум, грохот и грозы новой эпохи не смогли поколебать его чисто пушкинское жизнелюбие, органичность, чувствование большого времени, рядом с которым все войны и революции — маленькие частности, подобные пыли на арфе Орфея. Многие искусствоведы уверены, что эту арфу, которую выронил Николай Гумилев, поднял именно Всеволод Рождественский». Пусть биография его не отличается такими резкими поворотами, трагедиями и героикой, как гумилевская, но три четверти века писать щедрые на радость стихи в часто очень трудном и безвыходном мраке — это более чем подвиг, считают его поклонники, почитатели и близкие люди. И вспоминают, что последние годы, уже прикованный к «креслу на колесиках», он продолжал удивляться жизни и писал стихи до последнего дня. Его последнее недописанное стихотворение было о малыше, для которого мир раскрыт, как увлекательная книга. По существу, всеми своими стихами он только и делал, что «звал смотреть, слушать, удивляться тому, что дарит нам жизнь». Это хорошее последнее слово благодарных читателей.



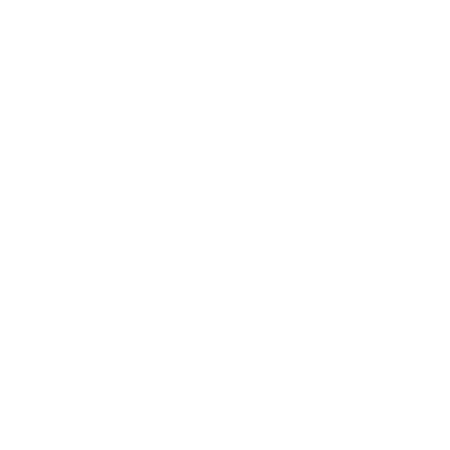 Яндекс.Дзен
Яндекс.Дзен



