Сергей Дмитриев
История поэзии русских путешествий
От автора
Как я стал поэтом-путешественником, или Почему появился проект «Поэтические места России»?

«Мы родом из детства, далёкого детства, из вечно прекрасной страны», — и как я рад, что мне посчастливилось родиться в городе, который по праву величают Великим. Именно здесь я ощутил дыхание русских просторов и связь с историей своего Отечества, именно здесь я впитал в себя энергию родной земли. Родившись в 1959 году и прожив в Новгороде 18 лет, я ещё застал то время, когда мы, сумасбродные мальчишки с улицы Волкова, могли беспрепятственно бегать по всем кремлёвским стенам, спускаться в башни и находить там суровые приметы ушедшей войны, забираться на Звонницу и засматриваться оттуда на возвышенный ритуал слияния, который веками демонстрируют Волхов и Ильмень.
В ту пору мы могли меняться бронзовыми крестами и маленькими иконками, не понимая ещё их ценности, бегать в разные концы города и с удивлением наблюдать за проводившимися там раскопками. Не потому ли я позднее поступил на истфак Новгородского пединститута, где проучился всего лишь год, и во многом связал свою жизнь с историей, написав впоследствии десятки статей и книг, защитив диссертацию и став издателем, прежде всего, исторической литературы.
В 1977 году моего отца перевели на работу в Москву, и мне пришлось расстаться с родным городом. Но любовь к нему со временем никак не угасала, а, наоборот, давала о себе знать всё чаще, пока я не обратился к теме Новгорода в своих стихах, которые я начал писать под впечатлением перемен в моей жизни уже в Москве весной 1979 года. Вот как я писал о своих новгородских истоках:
Я у истоков истинной Руси
Родился, сам того не зная,
И лишь теперь я постигаю,
Что жизнь мне в новгородском крае
Мой ангел не напрасно испросил.
Впитал я северных просторов
Никем не мереный размах
И смысл, таящийся в снегах,
И блеск на древних куполах,
И стойкость крепких поозёров.
Я в Ильмень с Волховом седым
Не раз восторженно вливался,
Когда с ребятами купался
Там, где когда-то появлялся
Отечества первичный дым.
Прошли века, но я такой,
Какими были наши предки.
Тысячелетья нового отметки
Лишь подтверждают старые заметки,
Что новгородец я душой.
Весьма показательно, что многие мои стихи о родном городе были написаны не во время поездок в сам Новгород, а во время странствий по миру — в Австрии, в Индии, в Африке... Контуры воспоминаний детства всегда становятся более чёткими, когда ты удаляешься от родных мест... И так было угодно судьбе, что, проработав долгое время в издательстве «Молодая гвардия», я уже более 27 лет тружусь в издательстве с символичным именем «Вече». Что это как не удивительный подарок судьбы? Новгородское «Вече» в издательской Москве! И это имя наше издательство оправдывало неоднократно, выпуская труды по русской истории и произведения отечественных классиков.
А как живописен Новгород и его окрестности! Понять это можно, пожалуй, только приехав сюда из монотонно-безликих городов и бродя с фотоаппаратом по Кремлю, берегам Волхова и Ильменя, ощущая рядом соседство столетий. Мое увлечение фотографией вместе с поэтическими опытами дали мне возможность по-новому увидеть, казалось бы, знакомый город. Мы часто говорим о спасительной национальной идее, а она спокойно и не навязчиво хранится в наших родным местах, в величественных памятниках древней культуры и в сохраненных традициях прошлых эпох.
Я абсолютно уверен, что моя страсть к путешествиям по родной земле и миру уходит корнями в мое новгородское детство, которое подарило мне причастность к великой истории, огромной стране и народам, ее населяющим. Только этой страстью я могу объяснить, что за прошедшие, активные с точки зрения путешествий, почти 30 лет жизни мне оказалось по силам не просто посетить более 75 стран и около 150 разнообразных мест России, но и воспеть эти странствия в своих стихах и фоторепортажах. Удивительно, но новгородский мальчишка из
В жизни очень многие важные вещи случаются как будто бы случайно, мимоходом, и только потом понимаешь, какое значение они имели на перекрёстках жизненных дорог. В 2002 году я отправился с друзьями из Новосибирска на Алтай, и 8 дней, проведенные в этом путешествии, не только потрясли меня увиденным, но и подарили особый настрой на долгие годы. Во-первых, я впервые в жизни написал в дороге целый цикл стихотворений, посвященных красотам и дыханию заповедного края, хотя ранее не понарошку увлекался стихами, а во-вторых, имея под рукой лишь самую скромную «мыльницу», даже с ее помощью начал снимать потрясающие виды алтайской земли. Так я впервые открыл для себя новый жанр, соединяющий стихи и фотографии, который я назвал фотостихами.
Далее последовала многолетняя череда моих путешествий по России и миру с камерой и рифмой, в которых я продолжал соединять воедино две Музы — поэзию и светопись. Итогом этих поисков стали, помимо фотовыставок, посвященных России, Намибию, Ирану, дорогам Грибоедова, мои книги-альбомы, в которых фотостихи сливались с историей: «По русским далям и просторам» (М., 2006), «По свету с камерой и рифмой. 100 удивительных и заповедных мест мира» (М., 2009). «На Святом Афоне. Стихи русского паломника» (М., 2013), «Персидские напевы. От Грибоедова и Пушкина до Есенина и XXI века» (М., 2014), а также появившиеся позднее сборники стихотворений, в которых находили отражения мои странствия: «Я жизнь за всё благодарю...», «Любовь земная и небесная», «Молитвы русского поэта» (М., 2018)
Перефразируя Пушкина, я тоже мог бы сказать:
Не зря извилистой тропой
Я пересёк пустыню мира,
Недаром камера и лира
Мне были вверены судьбой.
Но вот что важно: увлекшись своими фотопоэтическими путешествиями по России и миру, я стал перед каждой очередной поездкой искать в качестве образцов поэтического вдохновения те стихи русских поэтов, которые уже посвящались тем или иным местам, и постепенно выявились следующие обстоятельства. Во-первых, до сих пор в нашей стране никто не собрал и не подготовил хотя бы краткой, я уже не говорю о всеобъемлющей, антологии произведений поэтов-путешественников, и поэтому поиск любых «геоточек» русской поэзии представляется и сегодня довольно трудным занятием.
Во-вторых, выяснилось, что отражение в русской поэзии тех или иных мест родной земли и зарубежных стран происходило и происходит совершенно неравномерно и почти случайным образом: первенство здесь, конечно, держат столицы России, которым посвящали и посвящают стихи сотни поэтов, затем следуют самые известные места страны, например, крупнейшие города, Золотое кольцо, Байкал, река Волга. А вот многие территории, города и поселения, памятные и заповедные места, например, Алтай, Якутия, Сахалин и Камчатка, северные или сибирские города, лишь изредка удостаивались внимания поэтов. Конечно, это напрямую связано с тем, насколько часто и куда именно путешествовали и путешествуют поэты, которым проще посетить, к слову, Москву и Суздаль, чем отправиться в дальнее странствие на край огромной страны.
В третьих, стало совершенно ясно, что в различные эпохи поэты по-разному и путешествовали, и писали стихи о путешествиях, и воспринимали страну, в которой они жили. А отсюда вытекала задача внимательно и подробно изучить историю русской поэзии путешествий, начиная с ее истоков, на протяжении почти трех веков.
Таким образом, и мои личные впечатления и опыты, и первичное обращение к примерам поэтических творений русских поэтов-путешественников в прошлом, показали насущность и возможность создания проекта «Поэтические места России», который неспешно начал обретать те очертания, которые он получил в итоге в представляемом вниманию пользователей проекте.
А теперь попробуем совершить краткий экскурс в мир русской поэзии путешествий, делая следующие остановки: XVIII век, XIX век, Серебряный век, Советский период и Современная Россия, задерживаясь по ходу дела с особенной тщательностью на отдельных, самых значимых фигурах русской поэзии.
XVIII век
От истоков поэзии к грядущему расцвету
«Дайте русскому мальчику карту звездного неба, и на следующий день он вернет вам ее исправленной», — эти иронические слова из романа Достоевского «Братья Карамазовы», казалось бы, не относятся напрямую к поэзии, но они прекрасно демонстрируют ту важную черту русского национального характера, которая проявлялась и не единожды во многих областях человеческой деятельности: от подвигов первопроходцев и географических открытий до научных исследований и прорывов в сфере искусства. Выходить за пределы доступного, искать неведомое, постигать скрытое от взглядов — эти качества проявляли и многие русские поэты, особенно в эпохи «времен Очаковских и покоренья Крыма», первых русских кругосветных путешествий, Отечественной войны 1812 года и последующих постоянных войн за укрепление российской державы. Поэты всегда старались не отрываться от происходившего в стране, и, конечно, все это проявлялось и во время их странствий и путешествий по России и миру.
Однако в XVIII веке «поэтическое познание» мира делало в России только первые шаги, и дело заключалось не только в постепенном формировании русского поэтического языка, накоплении им богатств, опыта и традиций, но и в том месте, которое поэзия занимала в общественной жизни. Она еще не заняла то положение, которое подарил ей Золотой век русской поэзии, и оставалась в подчиненном, вторичном положении в культурном и общественном пространстве. Занятия поэзией были не совсем профессиональными, в том смысле, что они, как правило, лишь дополняли основную деятельность поэтов, в большинстве своем служивших на государственных постах разного рода. И получалось, что поэзия оказывалась часто продолжением этой службы и в ней во весь голос звучали именно гражданские мотивы.
До 80—90х годов XVIII века в русской поэзии почти безраздельно господствовал классицизм, которому были свойственны идеи рационализма, превосходства разума, обращение к высоким общественно-воспитательным функциям искусства, к возвышенной истории, с игнорированием часто всего случайного, индивидуального и мелкого. Эта направленность подкреплялась следованием строгим канонам и определенным жанрам поэзии, имевшим конкретные признаки и четкую иерархию. К высоким жанрам относились ода, трагедия, эпопея, а к низким — комедия, сатира, басня. В ту пору почти отсутствовал жанр небольших по объему лирических стихотворений, посвященных переживаниям и впечатлениям поэтов в конкретное время и в конкретном месте. А отсюда вытекало, что, перебрав все, написанное поэтами XVII века, мы найдем очень мало стихотворений, посвященных конкретно тем или иным местам России, городам и весям, которые приходилось посещать русским поэтам. Географическая тематика неизбежно растворялась тогда в исторических одах, пафосных эпопеях или более легких комедиях и баснях.
Важно также понять, что география путешествий русских поэтов XVIII века не шла ни в какое сравнение с такой географией Золотого века, а тем более века XX. Заграничные путешествия были тогда большой редкостью, да и странствия в отдаленные части России: в Сибирь и на Дальний Восток, в южные и северные места были крайне редкими, если не считать переезды по служебным обязанностям.
Многое стало меняться в концу века, когда появляется сентиментализм, который провозглашал создание нового поэтического языка и боролся против архаического высокопарного слога, выдвинул на первый план чувства, а не разум, усилил интерес к конкретным переживаниям людей, в том числе во время их путешествий и знакомства с городами и весями России. Показательно, что принадлежностью к сентиментализму, который исчерпал себя к 1820 году, отмечено творчество Н.М. Карамзина и В.А. Жуковского, которые много путешествовали и не могли не отражать это в своих произведениях. Карамзин же вообще, по сути, своими «Письмами русского путешественника» открыл в России моду на литературу о путешествиях или, говоря по-современному на трэвелоги, хотя пока еще не поэтические, а прозаические.
Попробуем бегло взглянуть на то, как на протяжении XVIII века тема путешествий и поэтического отображения мест России звучала в творениях самых значительных поэтов того времени.
В становлении русской поэзии заметную роль сыграл Василий Кириллович Тредиаковский
Вернувшийся в Россию в 1730 году Тредиаковский был назначен секретарем в Императорскую академию наук. Одной из его обязанностей на этом посту было сочинение похвальных од и панегириков на разные случаи и торжественных речей на русском и латинском языках. Его эксперименты, научные изыскания в области литературы, споры с Ломоносовым и Сумароковым способствовали появлению отечественной критики и оригинальных произведений в разных жанрах. Он любил землю, на которой живет, и описывал ее также торжественно и величаво, как и царствующих особ в похвальных одах.
Послушаем, как пышно и восторженно звучит «Похвала Ижерской земле и царствующему граду Санкт-Петербургу» (1752):
Приятный брег! Любезная страна!
Где свой Нева поток стремит к пучине.
О! прежде дебрь, се коль населена!
Мы град в тебе престольный видим ныне.
Немало зрю в округе я доброт:
Реки твоей струи легки и чисты;
Студен воздух, но здрав его есть род:
Осушены почти уж блата мшисты. <...>
Преславный град, что Петр наш основал
И на красе построил толь полезно,
Уж древним всем он ныне равен стал,
И обитать в нем всякому любезно.
Этот возвышенный стиль будет сохраняться при описании российских городов и весей еще очень долго. Тогда в поэзии царил классицизм, и эпические поэмы были высшей формой стихотворчества. Вспомним, что славу замечательному русскому поэту Михаилу Матвеевичу Хераскову
Но смена эпох — это смена эпох, а имя долговременного директора и куратора Московского университета, основателя Московского университетского пансиона, члена Вольного российского собрания, основателя первых московских театров, издателя литературно-просветительских журналов М.М. Хераскова все равно продолжает оставаться в числе тех, кто стоял у истоков российской словесности и прославлял историю своей страны. Еще раз подчеркнем, что именно XVIII век вошел в историю русской литературы как время, когда, перефразируя известное выражение, «поэтом можешь ты не быть, а служить Отечеству обязан», причем на самых разных поприщах.
Условия путешествий того времени были, конечно, не чета нынешним, быстрым и удобным, будь то авто или авиастранствия в пространстве. Вот послушаем, как поэт Николай Александрович Львов
Любезный друг! нас сани
Довезли лишь только до Рязани,
А тут растаял снег,
И невозможно хуже,
Свершился бег
Наш в луже!
Пожалуй, поспевай
Туда, где дело.
Нет, дух, как ты ни погоняй,
Да тело
Ведь с тобой
Какою-то судьбой
Везти
Необходимо.
А как же везть, как нет пути?
Без тела б можно мимо,
Для духа путь всегда готов,
Везде ямские на подставе
Его не держат на заставе,
Не спросят: «Чин ваш? Кто таков?»
Да как уж к месту доберется,
С делами кой-как разберется...
Да, в те времена, чтобы делать «дело», приходилось «везти свое тело» даже там, где «просто нет пути», и не надеяться на «вездесущий дух», которому не страшны ямские правила. Любопытно в этой связи, что сам автор этих иронических строк — Н.А. Львов был не только поэтом, а также драматургом, архитектором, геологом, химиком и филологом, прекрасно разбирался в древнерусской литературе и фольклоре, то есть был знаковой личностью той эпохи становления российского просвещения и образования, которая начиная с рубежа
Михаил Васильевич Ломоносов
(1711—1765)

Если задуматься, то судьба Ломоносова действительно и удивительна, и уникальна. Его приход в столицу из далекого архангельского села в 1731 году, его последующие великие открытия, его вклад в становление русской научной мысли — все это визитная карточка нашей истории, рождавшей типы, созвучные эпохе Возрождения. Только перечисление заслуг ученого может занять десятки страниц. И самое невероятное, что Ломоносов, проявивший себя в качестве химика и физика, астронома и приборостроителя, географа, металлурга, геолога и экономиста, немало усилий потратил и на гуманитарную сторону творчества, выступая и филологом, и художником, и историком, и просветителем, разработавшим проект создания Московского университета. Он каждым своим увлечением и занятием перебрасывал мостик к потомкам, вознося до небывалых прежде высот российские возможности и перспективы.
И совершенно не случайно, что Ломоносов обратился к поэзии, понимая ее великое значение для национального самосознания. Михаил Васильевич стал одним из начинателей русской литературы, смог добиться того, что благодаря его произведениям было усилена роль литературного языка. Его оды в честь царей и цариц, подвигов и побед русского оружия возносили российские будни на высоту, достаточную для прославления в веках. Но иногда он все же опускал взор на землю и, путешествуя по российским далям, не мог не посвящать стихи, например, Петербургу, утверждая, что «образ сей всего на свете краше», или Царскому Селу, обращая внимание на его природные красоты:
Луга, кустарники, приятны высоты,
Пример и образец эдемской красоты,
Достойно похвалить я ныне вас желаю,
Но выше по чему почтить, еще не знаю.
Не тем ли, что везде приятности в садах
И нежны зефиры роскошствуют в цветах? <...>
Всех больше красит сей Екатерина край:
При ней здесь век златой и расцветает рай.
Она все красоты присутством оживляет,
Как свет добротами и славой восхищает.
Не мог Ломоносов обойти поэтическим вниманием и своей родной Архангельской земли. В поэме «Петр Великий» (1760) в свойственной ему манере соединения истории и поэзии он показал, как царь посещал северные края России:
Монарх наш от Москвы простер свой быстрый ход
К любезным берегам полночных белых вод,
Где прежде меж валов душа в нем веселилась
И больше к плаванью в нем жажда воспалилась.
О сколь ты счастлива, великая Двина,
Что славным шествием его освящена!
Воспевая дела великого монарха, поэт уверен в «бодрости» и процветании в будущем северных земель России, как и всей страны:
Сошел на берег Петр и ободрил стопами
Места, обмоченны Романовых слезами.
Подвиглись береги, зря в славе оных Род.
Меж тем способный ветр в свой путь сзывает флот?
Он легким к западу дыханьем поспешает
И мелких волн вокруг себя не ощущает.
Тогда пловущим Петр на полночь указал,
В спокойном плаванье сии слова вещал:
«Какая похвала Российскому народу
Судьбой дана — пройти покрыту льдами воду.
Хотя там кажется поставлен плыть предел,
Но бодрость подают примеры славных дел...
Пример Ломоносова показывает, что даже у самых своих истоков, когда еще только формировались основы русского литературного языка, поэты России не чурались «путешественнической темы», видя в ней источник вдохновения.
Александр Петрович Сумароков
(1717—1777)

Этот поэт и драматург считается «отцом русского театра», его театральные сочинения давно стали учебником для тех, кто ищет себя в драматургии. Своими поэтическими произведениями Сумароков поднял отечественную литературу на новую по тем временам высоту. Он писал стихи, басни, любовную лирику, его поэзия отличается своим внешним разнообразием. Им испробованы все жанры, свойственные поэзии XVIII века: оды (торжественные, духовные, философские, анакреонтические), эпистолы (послания), сатиры, элегии, песни, эпиграммы, мадригалы, эпитафии. В своей стихотворной технике он использовал все существовавшие тогда размеры, делая опыты в области рифмы.
Однако классицизм Сумарокова отличен, например, от классицизма его старшего современника Ломоносова. Сумароков «снижает» классическую поэтику, прибегая к менее «высокой» тематике, привнося в поэзию мотивы личного, бытового порядка.
И, конечно, Сумароков не мог пройти мимо описания красот русской природы, ее основных городов — Москвы и Петербурга. При этом, рассказывая о том же Петербурге, он не просто возносит и восхваляет его величие, а именно опускается до «низких» жанров — личных намеков, почти что сплетен и новостей «по-соседски». Таково, например, «Письмо ко приятелю в Москву» (1774), где поэт рассказывает другу, «где я в Петрополе живу». Тут говорится и о «любезном брате» — о фаворитах Разумовских, одному из которых отошел Аничков дворец, в котором жил в это время Сумароков и который он описывал. Тут возникает и некий сенатор, то ли соученик Сумарокова по кадетскому корпусу, то ли другой чиновник, живущий тоже возле Аничкова моста.
А другую столицу России Сумароков воспевает в «Письме ко князю А.М. Голицыну» (1769), и здесь уже звучат, хотя и не так легко и изящно, пушкинские нотки. Правда при этом, автор отмечает, что Москве еще идти и идти «на самый верх премудрости»:
А ты, Москва! А ты, первопрестольный град,
Жилище благородных чад,
Обширные имущая границы,
Сответствуй благости твоей императрицы,
Развей невежество, как прах бурливый ветр!
Того, на сей земле цветуща паче крина,
Желает мудрая твоя Екатерина,
Того на небеси желает мудрый Петр!
Сожни плоды, его посеянны рукою!
Где нет наук, там нет ни счастья, ни покою.
Не думай ты, что ты сокровище нашла,
И уж на самый верх премудрости взошла!
Не обошел Сумароков своим вниманием и великой Волги, которая вдохновляла, пожалуй, всех русских поэтов без исключения. В своей «Оде» (1760) он называет Волгу «преславна мати многих рек», которая пропадает «в вечности»:
Долины, Волга, потопляя,
Себя в стремлении влечешь,
Брега различны окропляя,
Поспешно к устию течешь.
Ток видит твой в пути премены,
Противности и блага цепь;
Проходишь ты луга зелены,
Проходишь и песчану степь...
В Каспийские валы впадаешь,
Преславна мати многих рек,
И тамо в море пропадаешь, —
Во вечности и наш так век.
Конечно, и к Сумарокову можно было бы предъявить претензию, что уж слишком мало в его наследии «путешественнических» стихов, но такова была его эпоха: стезя странствий еще не приобрела тогда того размаха и популярности среди поэтов, как это произошло намного позже в русской культуре.
Гавриил Романович Державин
(1743—1816)

Для нашего исследования очень показательно и важно творчество знаменитого поэта-государственника Г.Р. Державина, одного из немногих русских мастеров рифмы, который сочетал в себе поэтическое творчество и служение на высоких государственных постах губернатора (Олонецкого и Тамбовского наместничеств) и министра юстиции. Казалось бы, он по долгу службы очень много ездил по российским просторам и должен был оставить немало стихотворений о своих странствиях, но было совсем не так: поэт посвятил конкретным местам менее десятка стихов. Показательно, что в двух из них он вспоминал о своей малой Родине — Казани и Казанской губернии, где он родился в селе Сокуры. И конечно, как дитя своей эпохи, Державин не мог не изъясняться в том же витиеватом, часто напыщенном стиле, свойственном поэзии того времени. Послушаем, как он писал о Казани в 1798 году:
О колыбель моих первоначальных дней!
Невинности моей и юности обитель!
Когда я освещусь опять твоей зарей
И твой по-прежнему всегдашний буду житель?
Когда наследственны стада я буду зреть,
Вас, дубы камские, от времени почтенны!
По Волге между сёл на парусах лететь
И гробы обнимать родителей священны?
Звучи, о арфа! ты всё о Казани мне!
Звучи, как Павел в ней явился благодатен!
Мила нам добра весть о нашей стороне:
Отечества и дым нам сладок и приятен.
Да, стиль еще не совсем «золотого века» русской поэзии, но как бьётся мысль: в последней строке Державин не просто сказал то, что перефразировал позже в «Горе от ума» А.С. Грибоедов, но и по сути выразил главную идею всяческих путешествий: именно они позволяют почувствовать тоску по Родине, и даже знакомый с детства «дым Отечества» — «дым трагедий, неустроенности и былых пожарищ» нам становится «и сладок, и приятен».
Еще одна свойственная многим поэтам XVIII века особенность проявилась в стихах Державина: он часто воспринимал то или иное место родной страны через призму истории. И вот образец — мини-стихотворение поэта 1767 года «На шествие императрицы в Казань»:
Пристойно, Волга, ты свирепо протекала,
Как для побед Татар тобой царь Грозный шел;
Ты шумом вод своих весь полдень устрашала,
Как гром тобою Петр на гордых Персов вел;
Но днесь тебе тещи пристойно с тишиною:
Екатерина мир приносит всем собою.
Не был Державин чужд и воспеванию красот русской природы, вот, например, строки, посвященные прелестному водопаду Кивач в Карелии, который я тоже видел и не мог не отразить в своих стихах:
Шуми, шуми, о водопад!
Касаяся странам воздушным,
Увеселяй и слух, и взгляд
Твоим стремленьем, светлым, звучным,
И в поздной памяти людей
Живи лишь красотой твоей!
Живи — и тучи пробегали
Чтоб редко по водам твоим,
В умах тебя не затмевали
Разжённый гром и чёрный дым;
Чтоб был вблизи, вдали любезен
Ты всем; сколь дивен, столь полезен.
А еще один пример творчества Державина — отрывок из его стихотворения «Крестьянский праздник», написанного в имении Званка Новгородской области, где поэт прожил до самой смерти, — показывает иную, уже социальную направленность его поэзии. Тут и понимание крестьянской жизни, и прозорливая уверенность — и это в 1807 году! — что именно крестьяне дадут достойный отпор французам, когда «бесов французских наваждение» исчезнет, как прах:
Поют под пляской в песнях сельских,
Что можно и крестьянам быть
По упражненьях деревенских
Счастливым, радостным — и пить.
Раздайтесь же, круги, пошире,
И на преславном этом пире
Гуляй, удала голова!
Ничто теперь уже не диво:
Коль есть в глазах вино и пиво,
Всё, братцы, в свете трын-трава...
Ура, российские крестьяне,
В труде и в бое молодцы!
Когда вы в сердце христиане,
Не вероломцы, не страмцы,
То всех пред вами див явленье,
Бесов французских наважденье
Пред ветром убежит, как прах.
Вы всё на свете в грязь попрете,
Вселенну кулаком тряхнете,
Жить славой будете в веках.
Что тут скажешь, пророками поэты в России были всегда, и Державин не случайно стал зримым мостиком к «золотому веку» российской поэзии, передав свою эстафету юному А.С. Пушкину, и где? — именно в Лицее, в Царском Селе, которое Гавриил Романович сильно любил и тоже воспевал в своих стихах. При этом он опять предвосхищал в 1791 году то мощное и светлое отображение «природных чудес» в русской поэзии, которое с особой силой проявит себя в XIX веке:
Взгляни, взгляни вокруг,
И виждь — красы природы
Как бы стеклись к нам вдруг:
Сребром сверкают воды,
Рубином облака,
Багряным златом кровы;
Как огненна река,
Свет ясный, пурпуровый
Объял все воды вкруг;
Смотри в них рыб плесканье,
Плывущих птиц на луг
И крыл их трепетанье.
Весна во всех местах
Нам взор свой осклабляет,
В зеленых муравах
Ковры нам подстилает...
Пусть пока еще эти стихотворные строки не так плавны и безукоризненны, пусть в них еще хватает полузабытых архаизмов, но дыхание русской природы в них чувствуется по-настоящему...
Александр Николаевич Радищев
(1749—1802)

Чуть более 50 лет выпало Радищеву на его веку, но он, как и многие другие поэты XVIII века, успел за это время не только прожить все перипетии своей трагической судьбы, но и изрядно попутешествовать, причем часто «не по своей воле». Родился он в Саратовской губернии, учился в гимназии при Московском университете, потом в пажеском корпусе в Петербурге, был отправлен за границу в составе группы молодых дворян для научных занятий — эти краткие сведения только этапы пути писателя, известного всем со школьных времен как автор произведения о бесправной жизни российских крестьян «Путешествия из Петербурга в Москву» (1780). «Бунтовщик хуже Пугачева», — определила тогда императрица Екатерина, решив, что автор заслуживает смертной казни, но в виде милости заменила казнь на ссылку в Сибирь, в Илимский острог.
Очень важно, что своим «Путешествием» Радищев развил и фактически открыл заново тот особый жанр «странствий» и путешествий, который в русской литературе развивался долгие годы. И несмотря на крамольность его произведения, оно дало толчок многим будущим поэтам и писателям, которые нашли в «путевых записках» прекрасное средство самовыражения и отражения всего ими увиденного и прочувствованного.
В 1791 году Радищева отправляют в ссылку, «к черту на кулички», а он смело смотрит в будущее да еще ставит перед собой ту задачу, которая впоследствии будет воодушевлять не одно поколение русских поэтов:
Ты хочешь знать: кто я? что я? куда я еду?
Я тот же, что и был и буду весь мой век.
Не скот, не дерево, не раб, но человек!
Дорогу проложить, где не бывало следу,
Для борзых смельчаков и в прозе и в стихах,
Чувствительным сердцам и истине я в страх
В острог Илимский еду.
«Дорогу проложить, где не бывало следу, / Для борзых смельчаков и в прозе и в стихах», — эти слова Радищева можно смело считать духовным заветом для всех поэтов-путешественников. И удивительно, что его не сломила ссылка, прошло почти 7 лет, а он оставляет острог в возвышенном настроении:
Час преблаженный,
День вожделенный!
Мы оставляем,
Мы покидаем
Илимски горы,
Берлоги, норы!
После ссылки Радищев вернется в свое имение в Калужской губернии. Позже, при новом императоре Александре I, будет вызван в Петербург. Он будет еще писать и служить в различных ведомствах, и также любить путешествия. Если мы обратимся к его стихотворной повести «Бова» (1799), то сможем вместе с автором и его Пегасом проследовать по разным городам и весям не только России, но и близлежащих стран:
На Пегаса я воссевши,
Полечу в страны далеки,
В те я области обширны,
Что Понт Черный облегают,
Протеку страны и веси,
Где стояло сильно царство
Славна древле Мифридата,
Где Тигран царил в Арменьи;
Загляну я во Колхиду,
Землю страшну и волшебну...
Далее поэтическое воображение уносит Радищева в Крым, на Кавказ, на Волгу и Дон:
Посещу я и Тавриду,
Где столь много всегда было
Превращений, оборотов,
Где кувыркались чредою
Скифы, греки, генуэзцы...
Из Тавриды в Таман прямо,
А с Тамана чрез Кавказски
Горы съеду я на Волгу,
Во Болгарах спою песню;
Воздохну на том я месте,
Где Ермак с своей дружиной,
Садясь в лодки, устремлялся
В ту страну ужасну, хладну,
В ту страну, где я средь бедствий,
Но на лоне жаркой дружбы
Был блажен и где оставил
Души нежной половину.
С казацкого Дона, где «паслися табуны коней быстрых», Радищев улетает в Киев, на Дунай и в Византию:
Сошед с Дона, к Борисфену
Мы стопы свои направим.
Там Владимир, страны многи
Покорив своей державе,
В граде Киеве престольном
Княжил в блеске пышна сана
Над обширным царством русским,
Окружен всегда толпою
Славных рыцарей российских;
Он для памяти потомства
Живет в Несторе и в сказках.
О блажен, блажен сугубо!
Со Днепра пойдем к Дунаю;
На могиле древней мшистой
Мы несчастного Назона
Слезу жаркую изроним.
От Дуная морем Черным
Поплывем ко Геллеспонту
И покажем ту дорогу,
По которой плывши смело,
Войны росские возмогут,
Византии стен достигши,
На них твердо водрузити
Орлом славно росско знамя.
Но то скоро ли свершится?
Заканчивая свое путешествие Радищев, который вошел в русскую литературу как хранитель истины и добродетели, признается, что он не пророк, но точно знает, что Константинополь вернется рано или поздно под православные знамена: как же русские поэты умели дерзать, мечтать и воспевать свои мысли и чувства! И нам, их потомкам и последователям, остается хранить старые заветы и тоже стараться «дорогу проложить, где не бывало следу...»
Иван Иванович Дмитриев
(1760—1837)

И.И. Дмитриев, начинавший писать стихи позднее Державина и Радищева и стремившийся освободить стихотворный язык от тяжелых и устарелых форм, придать ему легкость, плавность и привлекательность, тоже проявил себя в первую очередь на государевой службе, ведь, дослужившись до полковника, он пройдет потом такие карьерные ступени, как товарищ министра, статский советник, обер-прокурор департамента Сената, тайный советник, сенатор, член Государственного совета и министр юстиции. И если спросить, много ли раз отметил автор своим поэтическим вниманием места российские, где он сумел побывать по службе, то окажется, что в его арсенале в основном накопились просто лирические стихи для песен, элегии, оды и басни. Хотя не мог поэт, родившийся в селе Богородском (теперь Троицкое) Казанской (позднее Симбирской, а ныне Самарской области) губернии, обойти стороной свою малую Родину. О своем родном селе Дмитриев оставил в 1788 году такие яркие строки, понимая, что он уезжает из него надолго и очень далеко:
Ах! скоро, скоро я с тобою
Расстануся, волшебный мир!
Пройдет недели две, не боле,
И я уже на чистом поле
Лечу на тройке, как зефир.
Удалы мчат, закинув гривы.
Земля бежит, и пыль столбом!
Прощайте, дни мои счастливы!
Прощай, отеческий мой дом!
Прощайте, грации и музы!
Увы! невольно сладки узы
Я должен с вами перервать...
Прощай, прощай и ты, о Волга! —
О Марс! о честь! о святость долга!
Скачу, скачу... маршировать.
«Земля бежит, и пыль столбом!.. Прощай, отеческий мой дом!» — подобные строки в те годы могли бы написать многие российские поэты, которых поднимающаяся в своем величии империя «времен очаковских и покоренья Крыма» звала на подвиги и служение Родине. Поэты той эпохи как бы вскользь, изредка, между делами службы, как это делал и Дмитриев, могли воспеть, например, любимую Волгу (1794):
Но страннику ль тебя прославить?
Он токмо в искренних стихах
Смиренну дань хотел оставить
На счастливых твоих брегах.
О, если б я внушен был Фебом,
Ты первою б рекой под небом
Знатнейшей Гангеса была!
Ты б славою своей затмила
Величие Евфрата, Нила
И всю вселенну протекла.
А потом, оказавшись на Иртыше в том же 1794 году, вспомнить подвиги Ермака-первопроходца:
Великий! где б ты ни родился,
Хотя бы в варварских веках
Твой подвиг жизни совершился;
Хотя б исчез твой самый прах <...>
Но ты, великий человек,
Пойдешь в ряду с полубогами
Из рода в род, из века в век;
И славы луч твоей затмится,
Когда померкнет солнца свет...
А уже в следующем, 1795 году, оказавшись в Москве, воспеть первопрестольную, вспомнив в стихотворении «Освобождение Москвы» смутные времена:
Примите, древние дубравы,
Под тень свою питомца муз!
Не шумны петь хочу забавы,
Не сладости цитерских уз;
Но да воззрю с полей широких
На красну, гордую Москву,
Седящу на холмах высоких,
И спящи веки воззову!
В каком ты блеске ныне зрима,
Княжений знаменитых мать!
Москва, России дочь любима,
Где равную тебе сыскать?
Венец твой перлами украшен;
Алмазный скиптр в твоих руках;
Верхи твоих огромных башен
Сияют в злате, как в лучах;
От Норда, Юга и Востока —
Отвсюду быстротой потока
К тебе сокровища текут;
Сыны твои, любимцы славы,
Красивы, храбры, величавы,
А девы — розами цветут!
Перед нами типичный образец русской «страннической» поэзии конца XVIII века, когда восторженный поэт не только восхищается увиденным им великим городом, но обязательно вспоминает героические моменты его истории. Жаль только, что в ту эпоху, в отличие времен последующих, даже плодовитые поэты оставляли после себя так мало стихов о памятных местах России.
Карамзин Николай Михайлович
(1766—1826)

Тяга российских поэтов XVIII века к истории особенно явно проявилась в творчестве Н.М. Карамзина, который начинал как поэт и издатель, но получил свое творческое бессмертие именно как создатель «Истории государства Российского» — одного из первых обобщающих трудов по истории России. Он родился под Симбирском (сейчас Ульяновск), а в 1785 году переехал в Москву, где и начал свое восхождение к общероссийской известности.
Карамзину выпало сыграть в истории российских путешествий весьма заметную роль: он разжег, как факел, страстную тягу к путешествиям у многих своих современников, сделав их модными и желанными, и произошло это после того, как в возрасте 23 лет, в
Для нас важно, что хотя письма Карамзина были прозаическими и к поэтическим занятиям во время поездки он прибегал редко, его страннические опыты помогли в будущем многим русским поэтам, которые начали вскоре более широко и массово открывать для себя зарубежные страны. По-видимому, Н.М. Карамзин на долгие времена задал своей книгой некую сверхзадачу для всех путешественников, которые хотели бы не только увидеть дальние страны, но и запечатлеть в слове или образах искусства свои впечатления и думы, и это, конечно, относилось не только к прозаикам, но и к поэтам, и даже художникам и композиторам. Его герой — это русский человек, живущий в большом мире и вбирающий в свое сердце все тревоги и интересы этого мира. И как же хочется Путешественнику вернуться в конце долгих странствий на Родину. Не случайно в своем последнем письме из Кронштадта он восклицает: «Берег! Отечество! Благословляю вас! Я в России и через несколько дней буду с вами, друзья мои!.. Всех останавливаю, спрашиваю, единственно для того, чтобы говорить по-русски и слышать русских людей... Перечитываю теперь некоторые из своих писем: вот зеркало души моей в течении осьмнадцати месяцев! Оно через 20 лет будет для меня ещё приятно... Загляну и увижу, каков я был, как думал и мечтал... Может быть, и другие найдут нечто приятное в моих эскизах...»
Пройдет совсем немного лет, чуть более десяти, и совершенно естественным окажется переход Карамзина от «Писем русского путешественника» к «Истории государства Российского», от познания европейского мира к постижению мира русской истории. На реализацию этого проекта ушло двадцать три года напряженного труда, с 1803 по 1826 год.
Жаль, что по России Карамзин путешествовал немного, он долго жил в Москве, Петербурге, часто посещал Царское Село и оставил после себя лишь несколько стихотворений о городах и весях страны. Его поэзия была во многом сформирована европейским сентиментализмом, отличалась от поэзии его современников и стихи о путешествиях как то выпадали из его творческой палитры. Поэта интересовали не внешние обстоятельства, а внутренний, духовный мир человека. Стихи Карамзина можно сравнить с «языком сердца». И он все-таки писал о Москве, в которой жил, о просторах России, по которым протекала дорогая его сердцу родная река Волга, о событиях священной для народа войны 1812 года и трагедии Бородинской битвы. Послушаем, как Карамзин еще в 1793 году одним из первых в русской поэзии воспевал Волгу в стихотворении «Мать-река»:
Река священнейшая в мире,
Кристальных вод царица, мать!
Дерзну ли я на слабой лире
Тебя, о Волга! величать,
Богиней песни вдохновенный,
Твоею славой удивленный?
Дерзну ль игрою струн моих,
Под шумом гордых волн твоих —
Их тонкой пеной орошаясь,
Прохладой в сердце освежаясь —
Хвалить красу твоих брегов,
Где грады, веси процветают,
Поля волнистые сияют
Под тению густых лесов...
Для поэта было очень важно, что именно на Волге, этой «священной реке», он рос и открывал для себя природу и российские дали:
Где в первый раз открыл я взор,
Небесным светом озарился
И чувством жизни насладился;
Где птичек нежных громкий хор
Воспел рождение младенца;
Где я Природу полюбил,
Ей первенцы души и сердца —
Слезу, улыбку — посвятил
И рос в веселии невинном,
Как юный мирт в лесу пустынном?
Дерзну ли петь, о мать река!
Как ты, красуяся в теченье
По злату чистого песка,
Несешь земли благословенье
На сребряном хребте своем,
Везде щедроты разливаешь,
Везде страны обогащаешь
В блистательном пути твоем...
Теки, Россию украшая;
Шуми, священная река,
Свою великость прославляя...
А вот образец «исторической поэзии» Карамзина («Освобождение Европы и слава Александра I»), помеченный 1814 годом, в котором автор вспоминал об эпизодах Отечественной войны 1812 года, о Бородино (задолго до Лермонтова!), о сожжении Москвы:
Везде курится фимиам:
Россия есть обширный храм.
Лежат храбрейшие рядами;
Поля усеяны костями;
Всё пламенем истреблено.
Не грады, только честь спасаем!..
О славное Бородино!
Тебя потомству оставляем
На память, что России сын
Стоит против двоих один!
Карамзин такой поэзией, как и «Письмами русского путешественника», надолго и всерьез задавал тон будущим «пиитам российским», высоко поднимая планку патриотического и исторического отображения русского мира. А вот эти строки о Москве встают почти в самый первый ряд «московской линии» русской поэзии, которая продолжается и по сей день:
А ты, державная столица,
Градов славянских мать-царица,
Создание семи веков,
Где пышность, нега обитали,
Цвели богатства, плод трудов;
Где храмы лепотой сияли
И где покоился в гробах
Царей святых нетленный прах! <...>
Москва! прощаемся с тобою,
И нашей собственной рукою
Тебя мы в пепел обратим!
Пылай: се пламя очищенья!
Мы землю с небом примирим.
Ты жертва общего спасенья!
В твоих развалинах найдет
Враг мира гроб своих побед.
После Карамзина, открывшего народу богатство его многовековой истории, в русской поэзии «историческая струна» зазвучала намного сильнее, и не зря Пушкин, который склонялся в конце жизни все более к историческим темам и сам становился историком, так ценил «Историю государства Российского».
Василий Львович Пушкин
(1766—1830)

Веселый, беззаботный нрав, знание многих европейских языков, светский такт, добродушие и остроумие — потомки с благодарностью до сегодняшнего вспоминают дядю Александра Сергеевича Пушкина за тот свет и то тепло, которые подарил он племяннику, сыграв большую роль в становлении и взрослении русского гения. Но Василий Львович и сам был сочинителем — в его наследии сказки, басни, эпиграммы, элегии, сатиры, послания, повесть в стихах. Друзья его, великие поэты Жуковский, Пушкин, Батюшков, Вяземский, понимали и принимали все слабости и чудачества Василия Львовича и всегда ценили его «отменно чистый слог, который никогда не ковыляет», его замечательный звучный стих, который в какой-то степени служил мостиком между Золотым веком русской поэзии и стихотворными опытами последних десятилетий XVIII века.
Василий Львович путешествовал не очень много, но и в любых встречах с вполне обычными местами и знакомыми городами, он умел увидеть повод для поэзии и рифмы. Москва, Тверь, Нижний Новгород остались строчками его лирики. К примеру, в известной поэме В.Л. Пушкина «Опасный сосед» (1811) тема странствий звучит очень ярко и колоритно, напоминая в чем-то будущий стиль его великого племянника:
Мы сели в о́бшивни, покрытые ковром,
И пристяжная вмиг свернулася кольцом.
Извозчик ухарский, любуясь рысаками,
«Ну! — свистнул, — соколы! отдернем с господами».
Пустился дым густой из пламенных ноздрей
По улицам как вихрь несущихся коней.
Кузнецкий мост, и вал, Арбат и Поварская
Дивились двоице, на бег ее взирая.
Позволь, варяго-росс, угрюмый наш певец,
Славянофилов кум, взять слово в образец.
Досель, в невежестве коснея, утопая,
Мы, парой двоицу по-русски называя,
Писали для того, чтоб понимали нас.
Ну, к черту ум и вкус! пишите в добрый час.
А в послании к П.Н. Приклонскому В.Л. Пушкин прямо признавался в своих частых разъездах, которые открывали ему прелести российских мест:
Хозяин я плохой, в больших разъездах вечно,
То в Питере живу, то в Низовой стране,
И скоро проживусь, конечно;
Подчас приходит жутко мне! <...>
Ответствуй мне скорей иль прозой, иль стихами.
Но будь здоров и помни обо мне!
В прелестной юности соделавшись друзьями,
В какой бы ни был ты стране,
Поверь, что мысль моя стремится за тобою!
И если летнею порою
Поеду в Питер я, останусь дни два, три
У друга моего в Твери.
Воссяду с лирой золотою
На волжских берегах крутых,
И тамо с пламенной душою
Блаженство воспою я жителей тверских.
Как видим, путешествия дарили Василию Львовичу и вдохновение, и блаженство. И даже в тяжкие дни оставления Москвы в ходе Отечественной войны 1812 года вынужденный перебраться в Нижний Новгород поэт находил слова для воспевания русских земель — от Москвы до Волги, обращаясь к нижегородским жителям:
Примите нас, мы все родные!
Мы дети матушки Москвы!
Веселья, счастья дни златые,
Как быстрый вихрь, промчались вы!
Примите нас под свой покров,
Питомцы волжских берегов!
Чад, братий наших кровь дымится,
И стонет с ужасом земля!
А враг коварный веселится
На башнях древнего Кремля!
Примите нас под свой покров,
Питомцы волжских берегов!
Святые храмы осквернились,
Сокровища расхищены!
Жилища в пепел обратились!
Скитаться мы принуждены!..
Погибнет он! Москва восстанет!
Она и в бедствиях славна;
Погибнет он. Бог русский грянет!
Россия будет спасена.
И В.Л. Пушкину, как поэту двух веков русской поэзии, выпало прожить после трагедии 1812 года еще 18 лет и стать свидетелем начала того самого Золотого века и расцвета таланта его племянника, ставшего сердцем и энергетическим двигателем этой метаморфозы в истории российской поэзии.
XIX век
Золотой век русской поэзии в ореоле путешествий
Историки и литературоведы до сих пор спорят, когда же в России начался и когда закончился Золотой век русской поэзии. Впервые такое выражение применительно к русской литературе употребил в 1863 году М.А. Антонович, потом начались постоянные дискуссии, которые привели к результату, что Золотой век русской поэзии охватывает первую треть XIX века (или все-таки чуть больше, включая творчество Ф.И. Тютчева), в то время как в русской литературе он длился почти до конца XIX века, включая труды Ф.М. Достоевского и Л.Н. Толстого. На мой взгляд, Золотой поэтический век в нашей стране продлился примерно с
Для нашего повествования важно отметить, что рождение и развитие Золотого века совпало с победой романтизма, который пришел на смену классицизма и сентиментализма со следующими своими чертами: внимание к душевному миру человека, к его чувствам, а не только к великим идеям и общественному служению; культ природы, а не культ разума, и естественного в человеке; изображение ярких, зачастую сильных, страстей и характеров людей, показ страданий и эмоций героев; появление новых жанров, таких как баллада и романтическая драма, поэтические пьесы. Родоначальником романтизма считается В.А. Жуковский, а к его последователям можно отнести и К.Н. Батюшкова, и Е.А. Баратынского, и раннего А.С. Пушкина, и «русского Байрона» М.Ю. Лермонтова, и Ф.И. Тютчева, которому суждено было фактически завершить романтизм на русской почве. Без сомнения сердцем и душой Золотого века русской поэзии был Пушкин, которого с разных сторон поддерживали «поэты пушкинской поры».
Начало Золотого века совпало с эпохой Наполеоновских войн, которые не только прибавили драматизма тогдашней жизни, но и открыли границы для освоения поэтами пространства России и Европы. Десятки участников Отечественной войны 1812 года, включая Д. Давыдова, Ф. Глинку, А. Грибоедова, познали тогда европейские дали, что не могло не сказаться на их поэтических опытах. А после этого последовала эпоха «перемены мест», если использовать известное выражение из грибоедовского «Горя от ума»: она закрутила в своем водовороте десятки поэтов, которые вынуждены были скитаться, не имея постоянного пристанища. То их ждали войны, то участие в декабристском движении и ссылки, то дуэли, заканчивавшиеся теми же ссылками, то служебные поездки-испытания. Как правило, поэты рождались в одном месте, а потом переезжали из одного города в другой, постигая при этом российские просторы. И, конечно, такие перемены в образе жизни поэтов не могли не принести в копилку поэзии путешествий новые веяния и открытия.
Во-первых, фактически впервые в русской поэзии стали появляться целые циклы стихотворений, посвященных тем или иным местам России. Это можно увидеть на примере Пушкина, которого ждал весьма сложный и запутанный маршрут судьбы от рождения до женитьбы: Москва — Царское село (Лицей) — Петербург — Кавказ — Крым — Украина — Кишинев — Одесса — Михайловское — Москва — Петербург — Тифлис и Эрзерум — Москва — Петербург — Болдино — Москва. И не случайно мы можем выделить в творчестве поэта стихи и поэмы, где одними из главных героев выступают места, оставившие неизгладимый след в его биографии: Москва, Царское Село, Петербург, Кавказ, Михайловское. Причем если суммировать все «геостихи» Пушкина, то на первом месте окажется Петербург с Царским Селом, на втором — Михайловское с окрестностями, а на третьем впечатливший поэта Крым. Даже родная Москва с подмосковным Захарово уступает в этом соревновании.
Заметим попутно, что Пушкин, пожалуй, первым в русской поэзии своим «Путешествием Онегина», помещенным в качестве приложения к его бессмертному творению, создал своеобразный «поэтический трэвелог», в котором Онегин странствует только путями самого автора: по России, Кавказу, Крыму, Украине.
Во-вторых, уже в начале Золотого века русской поэзии, особенно с победой романтизма как литературного направления, настоящей «меккой» поэтов становится только что открывшийся Кавказ, который в 1818 году увидел Грибоедов, в 1820 — Пушкин, а позднее — Лермонтов, Бестужев-Марлинский, Одоевский и многие другие. И «кавказская струна» зазвучала в русской поэзии во весь голос. Почти то же самое произошло и с Крымом, который именно в период господства романтизма так увлек русских поэтов. Заметим, что в это время поэтический интерес еще не коснулся ни Русского Севера, ни Сибири, ни многих, казалось бы, близких к столицам мест Центральной России с овеянными славой древнерусскими городами. Все это придет позднее, уже в XX веке.
В третьих, именно с 1820-х годов XIX века в поэзии утверждается традиция конкретного и реалистичного описания поэтами тех или иных мест, увиденных собственными глазами, без пафосных преувеличений и избыточных восторгов, столь свойственных более ранней поэзии. Достаточно обратиться к «Евгению Онегину» и узнать, что «Москва Онегина встречает / Своей спесивой суетой, / Своими девами прельщает, / Стерляжьей подчует ухой», что в Нижний Новгород «жемчуг привез индеец, / Поддельны вины европеец, / Табун бракованных коней / Пригнал заводчик из степей», что в Астрахани героя поэмы, «Как жар полуденных лучей / И комаров нахальных тучи, / Пища, жужжа со всех <сторон>, / Его встречают», и что в Пятигорске поражает «Зеленеющий Машук, / Машук, податель струй целебных; / Вокруг ручьев его волшебных / Больных теснится бледный рой...» Реальные приметы жизни и родных просторов с этой поры уже навсегда обретут свою прописку в извивах русского поэтического слова.
Если взглянуть с высоты сегодняшнего дня на русскую поэзию примерно 50 летнего периода 1810х-1860х годов, то она может представиться насыщенной и богатой мозаикой русских просторов, воспетых поэтическим словом. Конечно, львиную долю внимания поэтов принимали на себя Москва и Петербург — два столпа русской цивилизации, столицы русской поэзии, но постепенно география поэтического слова расширялась, вбирая в себя все новые и новые регионы России, что прекрасно показывают стихи 38 поэтов XIX века, представленных в рамках проекта «Поэтические места России».
Сделаем краткую экскурсию лишь по нескольким местам «поэтической географии» России XIX века, не забывая, что поэты в это время намного чаще, чем раньше, писали о своих родных усадьбах, деревнях и городах, которых просто перечислить — сложная задача.
П.А. Вяземский о Петергофе:
Как свеж, как изумрудно мрачен
В тени густых своих садов,
И как блестящ, и как прозрачен
Водоточивый Петергоф.
Д.В. Веневитинов о Великом Новгороде:
Ты ль предо мной, о древний град
Свободы, славы и торговли!
Как живо сердцу говорят
Холмы разбросанных обломков!
Не смолкли в них твои дела,
И слава предков перешла
В уста правдивые потомков!..
Ф.Н. Глинка о Валдае:
Вот мчится тройка удалая
Вдоль по дороге столбовой,
И колокольчик, дар Валдая,
Гудит уныло под дугой.
А.Н. Апухтин о проселках Орловщины:
По Руси великой, без конца, без края,
Тянется дорожка, узкая, кривая,
Чрез леса да реки, по степям, по нивам,
Всё бежит куда-то шагом торопливым...
Е.А. Баратынский про родное имение Мара на Тамбовщине:
Я помню ясный, чистый пруд:
Под сению берёз ветвистых,
Средь мирных вод его три острова цветут,
Светлея нивами меж рощ своих волнистых;
За ним встаёт гора, пред ним в кустах шумит
И брызжет мельница. Деревня, луг широкой,
А там счастливый дом... туда душа летит,
Там не хладел бы я и в старости глубокой!
М.Ю. Лермонтов об Эльбрусе и Кавказе:
Последний солнца луч златой
На льдах сребристых догорает,
И Эльборус своей главой
Его, как туча, закрывает.
А это строки о Кавказе С.Я. Надсона:
К тебе, Кавказ, к твоим сединам,
К твоим суровым крутизнам,
К твоим ущельям и долинам,
К твоим потокам и рекам,
Из края льдов — на юг желанный,
В тепло и свет — из мглы сырой
Я, как к земле обетованной,
Спешил усталый и больной.
Н.А. Некрасов о Волге:
О Волга! после многих лет
Я вновь принес тебе привет.
Уж я не тот, но ты светла
И величава, как была.
Кругом все та же даль и ширь,
Все тот же виден монастырь...
И.С. Аксаков о родной Башкирии:
Вот родина моя... Вот дикие пустыни!..
Вот благодарная оратаю земля!
Дубовые леса, и злачные долины,
И тучной жатвою покрытые поля!
И.С. Никитин о Сибири и Байкале:
Сибирь!.. Напишешь это слово —
И вдруг свободная мечта
Меня уносит в край суровый.
Природы дикой красота
Вдали встаёт передо мною.
И, мнится, вижу я Байкал
С его прозрачной глубиною,
И цепи гор с громадой скал...
Какая изумительная в своей простоте и естественности поэзия: русские поэты открывали тогда Россию для всех нас, будущих потомков, которые сегодня постигают Вселенную России заново. И мы просто обязаны знать то, что было сказано о русских просторах в прошлые времена.
Золотой век русской поэзии интересен тем, что именно в эти годы русские поэты начали активно путешествовать заграницу, открывая одну страну за другой, но это не привело к отторжению родных мест на второй план. Наоборот, эти странствия только укрепляли их любовь к Родине, что мы можем подтвердить стихами многих мастеров рифмы. Например, в 1862 году в стихотворении «Отчизна» А.Н. Плещеев признался, что его страсть к заграничным путешествиям вдруг исчезла и сменилась крепкой привязанностью к Родине:
Но быстро та пора исчезла без следа,
И скорбь меня нежданно посетила...
И многое, чему душа была чужда,
Вдруг стало ей и дорого и мило.
Покинул я тогда заветную мечту
О стороне волшебной и далекой...
И в родине моей узрел я красоту,
Незримую для суетного ока...
Поля изрытые, колосья желтых нив,
Простор степей, безмолвно величавый;
Весеннею порой широких рек разлив,
Таинственно шумящие дубравы...
Вас понял я тогда; и сердцу так близка
Вдруг стала песнь моей страны родимой —
Звучала ль в песне той глубокая тоска,
Иль слышался разгул неудержимый.
Отчизна! не пленишь ничем ты чуждый взор.
Но ты мила красой своей суровой
Тому, кто сам рвался на волю и простор,
Чей дух носил гнетущие оковы...
О том же самом в стихотворении с показательным названием «Дома — лучше!» написал в 1868 году и Н.А. Некрасов:
В Европе удобно, но родины ласки
Ни с чем не сравнимы. Вернувшись домой,
В телегу спешу пересесть из коляски
И марш на охоту! Денек не дурной,
Под солнцем осенним родная картина
Отвыкшему глазу нова...
О матушка Русь! ты приветствуешь сына
Так нежно, что кругом идет голова!
Эти строки, как признание в любви к родным пенатам, и тут нельзя не вспомнить знаменитые слова: «Люблю отчизну я, но странною любовью!» М.Ю. Лермонтова в стихотворении «Родина»:
Но я люблю — за что, не знаю сам —
Ее степей холодное молчанье,
Ее лесов безбрежных колыханье,
Разливы рек ее, подобные морям;
Проселочным путем люблю скакать в телеге
И, взором медленным пронзая ночи тень,
Встречать по сторонам, вздыхая о ночлеге,
Дрожащие огни печальных деревень;
Люблю дымок спаленной жнивы,
В степи ночующий обоз
И на холме средь желтой нивы
Чету белеющих берез.
От конкретных, родных или любимых, мест России поэты всегда поднимались к обобщениям о Русской Земле в целом. Как это сделал Е.А. Баратынский, писавший «Я возвращуся к вам, поля моих отцов, / Дубравы мирные, священный сердцу кров! / Я возвращуся к вам, домашние иконы!» Или Ф.И. Тютчев в 1855 году:
Эти бедные селенья,
Эта скудная природа —
Край родной долготерпенья,
Край ты русского народа!
Не поймет и не заметит
Гордый взор иноплеменный,
Что сквозит и тайно светит
В наготе твоей смиренной.
Удрученный ношей крестной,
Всю тебя, земля родная,
В рабском виде царь небесный
Исходил, благословляя.
Удивительно, но, прожив заграницей более 20 лет, Тютчев так и не воспел в своих стихах ни Германии, ни Италии, в эти годы он писал только о Родине, придя в 1866 году к такому, всем известному выводу:
Умом Россию не понять,
Аршином общим не измерить:
У ней особенная стать —
В Россию можно только верить.
И в нее верили и продолжают верить сейчас новые поколения русских поэтов, чье призвание и профессия просто невозможны без веры и любви к родному краю. А чтобы почувствовать эту мистическую связь между русской поэзией и просторами Отечества, между путешествиями и восторгом отображения в стихах родных далей, обратимся к судьбам самых значимых и ярких поэтов XIX века — Грибоедова, Пушкина и Лермонтова, которых смело можно назвать поэтами-путешественниками, отразившими в своих творениях самую суть такого жизненного явления, как «охота к перемене мест».
Александр Сергеевич Грибоедов
(1795—1829)

«Прощай, мой друг, сейчас опять в дорогу» — эти слова Грибоедова из письма другу С.Н. Бегичеву можно смело поставить в качестве эпиграфа ко всей скитальческой жизни поэта: начиная со своего отъезда из Москвы летом 1812 года в армию, воевавшую с Наполеоном, ему пришлось почти беспрерывно скитаться более 16 лет, не имея постоянной крыши над головой. До конца лета 1815 года Грибоедов служил в Брест-Литовске в Кавалерийских резервах, потом переехал в Санкт-Петербург, а в июне 1817 года был принят там на службу в Коллегию иностранных дел и через год назначен секретарем при русском поверенном в делах Персии. Отправляясь в эту страну, Грибоедов первым открыл для поэтического вдохновения Кавказ — эту Мекку русских поэтов. Ему суждено было четырежды совершать путешествия на Восток, проехав при этом из Санкт-Петербурга в Тифлис и обратно 7 раз, а это 2670 верст и 107 почтовых станций в один конец, что в итоге составило около 20 000 верст. А ведь были еще переезды по России, в том числе по территории современных Белоруссии, Польши, Грузии, Армении и Азербайджана, а также поездки из Тифлиса в Персию — в Тавриз, Тегеран и обратно, и не один раз...
Напомним, что в ту эпоху передвигаться приходилось, как правило, в тяжелых условиях, особенно при непогоде, во всевозможных каретах, кибитках, повозках или верхом, причем в среднем не более
Поэт называл себя «секретарем странствующей миссии». Еще только начиная свои странствия, он писал 12 октября 1818 года своему начальнику С.И. Мазаровичу: «Как только мы будем вместе, я расскажу вам подробно о наших дорожных злоключениях; об экипажах сто раз разбитых и сто раз починенных, о длинных стоянках ради починки, об огромных издержках, которые довели нас до крайности». А в начале 1823 года поэт вынужден был признаться в письме к В.К. Кюхельбекеру: «И сколько раз потом я еще куда-то ездил. Целые месяцы прошли, или, лучше сказать, протянулись в мучительной долготе...» В сентябре 1825 года в письме тому же Бегичеву поэт так сформулировал свою планиду странствий: «...Игра судьбы нестерпимая: весь век желаю где-нибудь найти уголок для уединения, и нет его для меня нигде». А в самой комедии «Горе от ума» есть такие гениальные строки:
Когда постранствуешь, воротишься домой,
И дым Отечества нам сладок и приятен...
На крутой поворот в судьбе поэта, приведший его в стан российской дипломатии, несомненно, повлияла его страсть и тяга к путешествиям, проявившаяся еще в
Очень важно, что многие друзья и соратники Грибоедова посещали различные страны и помимо военных испытаний, рассказывая ему о своих открытиях. Так, П.Я. Чаадаев, товарищ поэта, послуживший, по некоторым данным, одним из главных прототипов Чацкого, успел с 1823 года около трех лет пропутешествовать по Европе, посетив «мировые столицы» Лондон, Париж, Рим, а также Милан, Флоренцию, Венецию, Берн, Женеву, Дрезден и Карлсбад. И он мог вслед за Гёте сказать: «Кто хорошо видел Италию, и особенно Рим, тот никогда больше не будет совсем несчастным».
Чаадаев во время путешествий смог расширить свои представления о «Божьем мире» и устройстве жизни разных народов, и его рассказы не могли не оказывать воздействие на Грибоедова. Добавим к этому участие в первом кругосветном путешествии русских кораблей
Стремление Грибоедова на дипломатическое поприще было совсем не удивительным, ведь в дворянской среде именно дипломатическая служба, также не лишенная опасностей, по почету и важности стояла на втором месте после военной службы. Вот почему на работу в Коллегию иностранных дел попадали многие дворяне. Достаточно сказать, что туда, по капризу судьбы, через четыре дня после Грибоедова поступили на службу А.С. Пушкин и В.К. Кюхельбекер, окончившие Царскосельский лицей.
Для прояснения этой ситуации упомянем еще два славных имени в истории русской поэзии — Константина Николаевича Батюшкова и Федора Ивановича Тютчева. Первый из них, участник Отечественной войны 1812 года, друг Пушкина, дошел с русской армией до Парижа и сумел посетить Польшу, Пруссию, Силезию, Чехию, Францию, Англию, Швецию и Финляндию («Все видел, все узнал и что ж? из-за морей / Ни лучше, ни умней / Под кров домашний воротился...» — писал он о своих странствиях). Пережив «три войны, всё на коне и в мире на большой дороге», измученный болезнями К.Н. Батюшков перевелся на дипломатическую службу и в 1819 году прибыл в Неаполь, где был причислен к неаполитанской миссии в качестве сверхштатного секретаря при русском посланнике графе Г.О. Штакольберге. Вскоре он переселился на остров Иския близ Неаполя, а впоследствии долго лечился в Германии.
Ф.И. Тютчев, окончив Московский университет, с 1822 года начал служить в Министерстве иностранных дел. Родственные связи дали ему возможность занять место при русской дипломатической миссии в Мюнхене. Место было скромным, сверх штата, лишь в 1828 году поэта повысили до младшего секретаря, но по роду своей службы он часто посещал Францию, Италию, Австрию, а впоследствии долго служил в Турине. В целом в Мюнхене и Турине он пребывал с 1822 по 1839 год, лишь изредка приезжая на Родину в отпуск, и, конечно, богатый опыт путешественника не мог не отразиться на творчестве великого поэта, в том числе и на осмыслении им «с далекого расстояния» России.
Упомянем, что по дипломатической части служил в те годы Ф.С. Хомяков, брат А.С. Хомякова, заменивший позднее Грибоедова на месте секретаря по иностранной части при генерале Ф.И. Паскевиче в Тифлисе, а также родной брат будущей жены Пушкина Дмитрий Николаевич Гончаров
Сидишь ли ты в кругу своих друзей,
Чужих небес любовник беспокойный?
Иль снова ты проходишь тропик знойный
И вечный лед полуночных морей?
Вообще-то тяга Грибоедова к Востоку, по сути, соответствовала резко возросшему тогда всеобщему интересу к восточному миру. Этот интерес наметился в России с начала XIX века и в связи с географическим соседством с восточными странами, и в связи с частыми войнами с народами мусульманского мира. В 1804 году в российских университетах было введено преподавание восточных языков — арабского и персидского, в 1818 году в Петербурге был организован Азиатский музей, где хранились восточные рукописи. В России в тот период стали появляться многочисленные переводы произведений восточной тематики, с которыми был прекрасно знаком Грибоедов: сказки «Тысяча и одна ночь», стихотворения Саади, Хафиза, Фирдуоси, «Персидские письма» Монтескье, «Волшебные сказки» А. Гамильтона, «Персия, или Картина управления, религии и литературы этой страны» А. Журдена. Грибоедов, который страстно любил театр и мечтал быть драматургом, неоднократно бывал в петербургских и московских театрах, где тогда были очень популярны оперы и балеты на восточные темы.
Грибоедов был наслышан от очевидцев о легендарном въезде в Царское Село персидского посольства во главе с Мирзой Абул-Хасан-ханом в 1814 году, и так же как его младший современник князь А.Д. Салтыков, он тоже мог бы восхититься великолепной процессией персов в ярких одеждах с двумя слонами и множеством лошадей и захотеть увидеть хоть когда-нибудь удивительный восточный мир. «Это странное видение произвело на меня сильное впечатление и породило желание видеть Восток, и особенно Персию», — писал тогда Салтыков. Грибоедов не мог также не читать модных в то время журналов, где то и дело появлялись статьи о Персии. К примеру, в «Вестнике Европы» в марте 1815 года были опубликованы статьи «О народах, обитающих в Персии» и «О нынешнем шахе персидском». Во второй из этих статей с отрывками из стихотворений шаха рассказывалось о том самом Фетх-Али-шахе, который через 15 лет сыграет роковую роль в тегеранской трагедии, приведшей к гибели Грибоедова.
В итоге своего «персидского выбора» Грибоедов получил чин титулярного советника и, выехав из Петербурга в конце августа 1818 года через Москву в Грузию и Персию, вернулся в Москву только в начале марта 1823 года, а в Петербурге появился лишь в июне 1824 года. В этот, первый, раз он пробыл на Востоке почти четыре с половиной года, в том числе непосредственно в Персии около двух лет и восьми месяцев (с февраля по декабрь 1819 и с января 1820 по ноябрь 1821 года). Тогда еще поэт не знал, что его ждет второе (с сентября 1825 по конец января 1826 года), третье (с августа 1826 по февраль 1828 года) и четвертое (с конца июня 1828 по 30 января 1829 года) пребывание на Востоке. При этом на территории Персии того времени, с учетом ее границ, существовавших до Туркманчайского договора (1828), поэт пробыл с июня 1827 по февраль 1828 года и с конца октября 1828 по конец января 1829 года. Получается, что из прожитых поэтом 34 лет он провел на Востоке без малого 7 лет, в том числе в Персии около трех лет и 8 месяцев.
Отправившись в сентябре 1818 года из Москвы в дальние края, поэт сразу же испытал на себе все тяжести и одновременно прелести странствий того времени, которые он кратко описал в своих обращенных к другу Бегичеву «Путевых заметках» — конспективных набросках, которые позже поэт намеревался развернуть в подробные рассказы. Как жаль, что этого ему сделать так и не удалось, ведь даже эти краткие наброски дышат такой поэзией и наблюдательностью, что из них могли бы получиться действительно эпические полотна. К тому же Грибоедов, пожалуй, первым в русской литературе обратился к теме Кавказа и Востока: до произведений А.А. Бестужева-Марлинского, А.С. Пушкина и М.Ю. Лермонтова было еще совсем не близко.
Послушаем, как зазвучал голос писателя в том далеком октябре 1818 года по пути из Моздока в Тифлис: «Светлый день. Верхи снежных гор иногда просвечивают изза туч; цвет их светлооблачный, перемешанный с лазурью. Быстрина Терека, переправа, караван ждет долго... Приближаемся к ландшафту: верхи в снегу, но еще не снежные горы, которые скрыты... Погода меняется, ветер, небо обложилось; вступаем в царство непогод... Поднимаемся в гору более и более, путь скользкий, грязный, излучистый, с крутизны на крутизну, час от часу теснее от густеющих кустов, которые наконец преобращаются в дубраву. Смешение времен года; тепло, и я открываюсь; затем стужа, на верхних, замерзших листьях иней... Пускаемся вперед с десятью казаками. Пасмурно, разные виды на горах. Снег, как полотно, навешен в складки, золотистые холмы по временам. Шум от Терека, от низвержений в горах... Идем все по косогору; узкая, скользкая дорога, сбоку Терек; поминутно все падают... часто проходим через быструю воду, верхом почти не можно, более пешком. Усталость, никакого селения, кроме трех, четырех осетинских лачужек, еще выше и выше, наконец добираемся до Крестовой горы... Встречаем персидский караван с лошадьми. От усталости падаю несколько раз... Арагва внизу вся в кустарниках, тьма пашней, стад, разнообразных домов, башен, хат, селений, стад овец и коз, руин замков, церквей и монастырей... Арагва течет быстро и шумно, как Терек. Дорога как в саду — грушевые деревья, мелоны, яблони».
Грибоедов впервые приехал в Тифлис, где ему суждено будет с 1818 по 1828 год за время нескольких длительных пребываний прожить не менее двух лет и 10 месяцев. Поэт считал этот город почти родным. «Спешите в Тифлис, — писал он после краткого нахождения в городе, — не поверите, что за роскошь!» В этом городе поэт нашел позднее и применение своему таланту дипломата и государственного деятеля, и вдохновение для творчества, в том числе для создания «Горя от ума», и свою истинную любовь.
28 января 1819 года, ровно за 10 лет до своей гибели, Грибоедов отправился вместе с русской миссией дальше в Персию, в Тегеран, куда он прибыл после опасного зимнего пути по горам и перевалам лишь около 10 марта. Поэт, называя себя «ничтожным странствователем», продолжал свои «Путевые заметки» в виде письма к Бегичеву, и так распорядилась судьба, что они стали самым значительным произведением о Персии, которое осталось от Грибоедова.
Уже в первый день пути поэт сделал переход верхом в 40 верст и, по его словам, «к вечеру уморился; не доходя до ночлега, отстав от всех, несколько раз сходил с лошади и падал в снег, едя его; к счастью, у конвойного казака нашлась граната, я ею освежился». «Однако, свечка догорает, — писал он тогда другу, — а другой не у кого спросить. Прощай, любезный мой; все храпят, а секретарь странствующей миссии по Азии на полу, в безобразной хате, на ковре, однако, возле огонька, который более дымит, чем греет...»
Дальнейшее странствие было ничуть не легче: «Хочешь ли знать, как и с кем я странствую то по каменистым кручам, то по пушистому снегу? Не жалей меня, однако: мне хорошо, могло бы быть скучнее. Нас человек 25, лошадей со вьючными не знаю, право, сколько, только много чтото. Ранним утром подымаемся; шествие наше продолжается часа дватри; я, чтобы не сгрустнулось, пою, как знаю, французские куплеты и наши плясовые песни, все мне вторят, и даже азиатские толмачи; доедешь до сухого места, до пригорка, оттуда вид отменный, отдыхаем, едим закуску, мимо нас тянутся наши вьюки с позвонками. Потом опять в путь. Народ веселый; при нас борзые собаки; пустимся за зайцем или за призраком зайца, потому что я ни одного еще не видал. <...> А я, думаешь, назади остаюсь? Нет, это не в Бресте, где я был в „кавалерийском“, — здесь скачу сломя голову; вчера купил себе нового жеребца; я так свыкся с лошадью, что по скользкому спуску, по гололедице беззаботно курю из длинной трубки. Таков я во всем: в Петербурге, где всякий приглашал, поощрял меня писать и много было охотников до моей музы, я молчал, а здесь, когда некому ничего и прочесть, потому что не знают порусски, я не выпускаю пера из рук».
Вот оно, благотворное воздействие странствий: «...Музам я уже не ленивый служитель. Пишу, мой друг, пишу, пишу. Жаль только, что некому прочесть». В пути Грибоедов размышляет о счастье творчества: «Часто всматриваюсь, вслушиваюсь в то, что сам для себя не стал бы замечать, но мысль, что наброшу это на бумагу, которая у тебя будет в руках, делает меня внимательным, и все в глазах моих украшает надежда, что, Бог даст, свидимся, прочтем это вместе, много добавлю словесно — и тогда сколько удовольствия! Право, мы счастливо созданы».
Поэта просто восхищает то, что открывается вокруг него, и он забывает о дневных переходах в 60 верст, о суровых «закоптелых ночлегах» в случайных жилищах по пути: «Дорого бы я дал за живописца; никакими словами нельзя изобразить вчерашних паров, которые во все утро круг горы стлались; солнце их позлащало, и они тогда как кипящее огненное море... потом свились в облака и улеглись у подножия дальних гор». Пробыв несколько дней в Эривани, столице подвассального Персии Эриванского ханства, которое отойдет к России по Туркманчайскому договору, 7 февраля миссия двинулась далее и скоро была уже в Нахичевани. «Не усталость меня губит, — писал Грибоедов из этого города, — свирепость зимы нестерпимая; никто здесь не запомнит такой стужи, все южные растения померзли. Притом как надоели все и всё!..». И совсем не случайны следующие слова Грибоедова: «Нет! Я не путешественник! Судьба, нужда, необходимость может меня со временем преобразить в исправники, в таможенные смотрители; она рукою железною закинула меня сюда и гонит далее; но по доброй воле, из одного любопытства никогда бы я не расстался с домашними пенатами, чтобы блуждать в варварской земле в самое злое время года. С таким ропотом я добрался до Девалу, большого татарского селения, в 81/4 агача от Эривани, бросился к камельку, не раздеваясь, не пил, не ел и спал как убитый!».
А впереди путников ждали «Таврис с его базаром и караван-сараями», десятидневный переход к Казвину, когда в горах «на каждом шагу падают лошади; тьма селений, но всё не те, где ночевать», «блуждание по полям, где нет дороги и снег преглубокий», Казвин — «древняя метрополия поэтов и ученых... остатки древнего великолепия — мечети, мейданы», и, наконец, последний переход: «Открываются Негиристанские горы. Подъезжаем к руинам, направо Раги Мидийские, мечеть, и там возвышается Тагирань. Наш дом. <...> Стены с башнями, вороты выложены изразцами, неуклюжие улицы (грязные и узкие) — это Тагирань».
Грибоедов въехал в Тегеран накануне мусульманского праздника «бейрама» и смог воочию наблюдать празднование во дворце шаха. Живя в Тегеране около четырех месяцев, поэт трижды побывал во дворце Фетх-Али-шаха, осматривал развалины Рагов Мидийских (древнего города Рея), посетил Негиристан и другие окрестности города, а потом почти на месяц отправился вместе с шахом из столицы в летнюю резиденцию в Султанейской долине. И опять «Путевые заметки» полны чувств и поэзии: «Отправляемся в самый полдневный жар. Бесплодный вид Тегеранских окрестностей. Сады, как острова, уединенно зеленеются среди тощей равнины. Между гор Демавенд с снежным челом. Вдоль гор доходим до Кенда. Тьма разнообразных дерев, черешен, шелковиц, орешников грецких, абрикосов и проч. Роскошествуем в свежей квартире под пологом, объедаемся фруктами. <...> Я часто отдаляюсь от других и сажусь отдыхать возле воды, где тьма черепах. Поля кругом в хлебах; вообще вид обработанного и плодородного края. <...> Вдоль ручья дикий сад. Ручей проведен водоскатами. Все это местечко включено между гор полукружием. Живописный вид в Султанейскую долину. <...> Заезжаем в мечеть (остаток от древнего города); круглая, внутри стихи, между прочим: „да погубит Бог того, кто выдумал сарбазов...“».
И хотя поэту было совсем не легко привыкать к новой стране («Смертная лень и скука, — писал он П.А. Катенину из Тегерана, — ни за что приняться не хочется»), молодой дипломат со свойственной ему энергией принялся за исполнение своих обязанностей именно в Тавризе, столице Южного Азербайджана, при дворе Аббас-Мирзы, наследника престола, куда поэт переехал из Тегерана в конце августа 1819 года. Именно в Тавризе Грибоедов проведет на Востоке больше всего времени, он вернется в Тифлис в конце 1822 года. Служба там при командующем Кавказским корпусом и фактическом управителе Грузии Ермолове стала для Грибоедова временем длительного «досуга», так как Алексей Петрович не особенно обременял его делами. Однако странствовать по служебным нуждам поэту приходилось по-прежнему слишком много, он писал «о частых разъездах, поглощающих пять шестых времени моего пребывания в этом краю». В начале 1823 года он вынужден был признаться в письме Кюхельбекеру: «И сколько раз потом я еще куда-то ездил. <...> Объявляю тебе отъезд мой за тридевять земель, словно на мне отягчело пророчество: И будет ти всякое место в предвижение».
Позднее после долгого проживания в Петербурге Грибоедов совершает, пожалуй, самое «свободное» путешествие в своей жизни, и как важно, что это было путешествие именно в Крым. Поэт искал темы для воплощения своего интереса к русской истории и, посетив Корсунь (Херсонес), задумал написать трагедию о святом князе Владимире, принявшем там крещение. В Крыму же, как свидетельствовал А.Н. Муравьев, Грибоедов рассказал ему план трагедии о князе Федоре Рязанском, посланном в 1237 году на переговоры с Батыем и злодейски убитом. В 1826 году поэт признавался одному из знакомых: «Душа моя темница, и я написал трагедию из вашей Рязанской истории». Сохранилась сцена «Серчак и Итляр», которая, вероятнее всего, и должна была войти в эту трагедию. В 1828 году Грибоедов приступил к созданию драмы «1812 год», план которой и одна из сцен также сохранились.
Гадать — неблагородное дело, но останься поэт жить, можно представить, куда он мог в дальнейшем направить свои творческие порывы. Об этом могут косвенно свидетельствовать также чудом сохранившиеся конспекты Грибоедова при чтении таких весомых трудов по русской истории, как «Деяния Петра Великого» И.И. Голикова и «Древняя Российская вивлиофика». А его собственные «Заметки по исторической географии России» (№
В Крыму поэт путешествовал верхом и пешком почти три месяца, проехав его вдоль и поперек, поднявшись на все основные вершины. Его «Путевые заметки» вновь дышат восторженными чувствами: «Поднимаемся на самую вершину... отыскиваем пристанища. Розовая полоса над мрачными облаками, игра вечернего солнца; Судак синеется вдали; корабль в Алуште будто на воздухе; море слито с небом... холод, греюсь, ложусь на попону, седло в головах... Ночью встаю, луна плавает над морем между двух мысов. Звезда изза черного облака. Другая скатилась надо мною. Какой гений подхватил ее?.. Кочуем в тумане и в облаках целое утро... Лунная ночь. Пускаюсь в путь между верхнею и нижнею дорогою. Приезжаю в Саблы, ночую там... Теряюсь по садовым извитым и темным дорожкам. Один и счастлив».
Поэт представляет себя свободным странником, упивающимся красотами природы и воспевающим увиденное. «Верь мне, — пишет он из Симферополя Бегичеву 9 сентября, — чудесно всю жизнь свою протаскаться на 4х колесах; кровь волнуется, высокие мысли бродят и мчат далеко за пределы пошлых опытов; воображение свежо, какой-то бурный огонь в душе пылает и не гаснет... Но остановки, отдыхи двухнедельные, двухмесячные для меня пагубны... <...> Подожду, авось придут в равновесие мои замыслы беспредельные и ограниченные способности».
В этих словах Грибоедова кроется разгадка той тайны, которая влекла и влечет до сих пор русских поэтов в круговерть бегущих в неизведанное дорог. Под его словами могли бы, без сомнений, подписаться такие певцы Музы дальних странствий и Странники русской поэзии, как Иван Бунин, Константин Бальмонт, Николай Гумилёв, Велимир Хлебников и многие другие, кому посчастливилось в жизни сочетать поэтическое творчество с путешествиями. В Крыму, как ни в каком другом месте, поэт задумался о бренности времен, когда с Чатыр-Дага видел «ветхие стены италийцев, греков или готфов», «груды камней», свидетельствовавшие «о прежней величавой жизни». Как писал поэт, он «вообразил себя на одной из ростральных колонн петербургской биржи. Оттуда я накануне моего отъезда любовался разноцветностью кровель, позолотою глав церковных, красотою Невы, множеством кораблей и мачт их. И туда взойдет некогда странник (когда один столб, может быть, переживет разрушение дворцов и соборов) и посетует о прежнем блеске нашей северной столицы, наших купцов, наших царей и их прислужников».
Образ странника появлялся в творениях поэта вновь и вновь, и все чаще Грибоедов — один из первых «странников русской литературы» — олицетворял себя самого с этим бесстрашным и неугомонным человеком-скитальцем, спешащим в неведомую даль. Как мы уже указывали, поэт однажды так сформулировал свою планиду странствий: «...Игра судьбы нестерпимая: весь век желаю где-нибудь найти уголок для уединения, и нет его для меня нигде». И особую тягу у поэта вызывали именно восточные просторы, что он объяснял Булгарину следующими словами: «Восток, неисчерпаемый источник для освежения пиитического воображения, тем занимательнее для русских, что мы имеем с древних времен сношения с жителями оного».
Процитируем лишь некоторые отрывки из поэтических творений Грибоедова, в которых тема странствий с восточным привкусом звучала в полный голос, заметив при этом, что «персидский странник» был по сути своего творческого почерка скорее не поэтом-лириком, а именно поэтом-драматургом, преобразовывавшим поэтическое видение мира в яркие драматические картины:
Туда веди, где под небес равниной
Поэту радость чистая цветет,
Где дружба и любовь его к покою
Обвеют, освежат божественной рукою.
(«Отрывок из Гете», 1824)
Зачем манишь рукою нежной?
Зачем влечешь из дальних стран
Пришельца в плен твой неизбежный,
К страданью неисцельных ран?
(«Телешовой», 1824)
Ты помнишь ли, как мы с тобой, Итляр,
На поиски счастливые дерзали,
С коней три дня, три ночи не слезали;
Им тяжко: градом пот и клубом пар,
А мы на них — то вихрями в пустыне,
То вплавь по быстринам сердитых рек...
Кручины, горя не было вовек,
И мощь руки не та была, что ныне.
(«Серчак и Итляр», 1825)
...Вестник зла? Я мчался с ним
В дальний край на заточенье.\
Окрест дикие места,
Снег пушился под ногами;
Горем скованы уста,
Руки тяжкими цепями.
(«Освобожденный», 1826)
Творец, пошли мне вновь изгнанье, нищету,
И на главу мою все ужасы природы:
Скорее в том ущелье пропаду,
Где бурный Ксан крутит седые воды.
(«Грузинская ночь», 1828)
Любопытно, что в первоначальной редакции «Горя от ума» Чацкий в монологе из 4го действия прямо говорил о своих кавказских странствиях, как бы следуя теми же дорогами, что и сам автор:
...Я был в краях,
Где с гор верхов ком снега ветер скатит,
Вдруг глыба этот снег в паденьи всё охватит,
С собой влечёт, дробит, стирает камни в прах,
Гул, рокот, гром, вся в ужасе окрестность.
Тема странствий в знаменитом творении Грибоедова вообще звучит во весь голос. Начнем с того, что главный герой комедии Чацкий тоже странник, причем добровольный, испытывающий потребность «ездить далеко» и «искать по свету, где оскорбленному есть чувству уголок». Как говорила о Чацком Софья,
Вот об себе задумал он высоко...
Охота странствовать напала на него...
Ах! Если любит кто кого,
Зачем ума искать, и ездить так далёко?
Чацкий появляется в комедии в промежутке между странствиями — только «с корабля» и уже через «день всего» требует себе карету. Автор «Обломова» И.А. Гончаров превосходно оценил особенности «страннического» облика Чацкого, как деятельного человека, воина, «передового курьера неизвестного будущего», «русского Гамлета»: «...Ум его играл страдательную роль, и это дало Пушкину повод отказать ему в уме. Между тем Чацкий как личность несравненно выше и умнее Онегина и лермонтовского Печорина. Он искренний и горячий деятель, а те — паразиты, изумительно начертанные великими талантами, как болезненные порождения отжившего века». Гончаров совершенно справедливо соединял Чацкого с самим Грибоедовым, утверждая, что «они недаром бились — хотя и бескорыстно, не для себя, и не за себя, а для будущего и за всех...».
М.О. Гершензон в своем знаменитом труде «Грибоедовская Москва» (1914) совершенно справедливо писал, что «в известном смысле „Горе от ума“ — эпизод из жизни самого Грибоедова, и сам автор — прототип Чацкого. Таков был, несомненно, и сознательный замысел Грибоедова. Чацкий взят в той самой позиции, в какой дважды был сам Грибоедов, — вернувшимся в Москву после долгого отсутствия. Выдуманная Грибоедовым любовь Чацкого к Софье... служит для обострения этой позиции: она делает московские впечатления Чацкого более яркими и болезненными... Особенно любопытны в этом отношении обмолвки комедии, еще более приближающие Чацкого к Грибоедову. Чацкий имеет какое-то странное отношение к литературе: он, как сам Грибоедов, „пишет, переводит“. И где он был эти три года?» Ответ на этот вопрос исследователя очевиден: Грибоедов (и косвенно Чацкий) был в Персии.
Современный исследователь А.А. Лебедев, называвший Грибоедова «отчетливо выраженным странником», в своем труде «Три лика нравственной истины. Чаадаев, Грибоедов, Якушкин» очень точно высказался о странничестве Чацкого: «Горе от ума» — это наше знакомство и одновременно прощание с Чацким. Мы застаем его посреди пути. Он исчезает, едва появившись. Ему предстоит долгий путь вечного странника русской литературы и русской общественной мысли... Чацкий не сходит, а выходит со сцены. В бесконечность. Его роль не завершена, а начата... Чацкий уходит искать по свету земли обетованной, «где оскорбленному есть чувству уголок», где «не темнеют неба своды, не проходит тишина». И он уже знает, успел узнать, что эта земля, эта страна — всегда за линией горизонта, «где нас нет».
Хочется спросить: в какой же стране странствует и поныне Чацкий? Исходя из пристрастий его творца, можно ответить, что это происходит где-нибудь на Востоке, на пути к Исфахану или Ширазу, Джайпуру или Багдаду...
Особенно «странническим» выпал для Грибоедова последний год его жизни, когда он через день после заключения Туркманчайского договора 11 февраля 1828 г. выехал из Тавриза в Тифлис. Грибоедов мог бы повторить в эти дни те же самые слова, которые он написал Бегичеву почти ровно 10 лет назад, когда только начинал свои восточные странствия: «Прощай, мой друг, сейчас опять в дорогу, и от этого одного беспрестанного противувольного движения в коляске есть от чего с ума сойти!». Теперь же предстояло ехать совсем не в коляске, а преимущественно верхом, и не по летней пыльной дороге где-то под Новгородом, а в горных районах Южного Азербайджана, в необычно снежную зиму через перевалы и замерзшие реки.
Да, прошло ровно 10 лет, за которые, как мы уже подсчитывали, Грибоедову пришлось только в дороге провести около двух с половиной лет, или не менее 850 дней, то есть в среднем по 85 дней ежегодно. Но начавшийся последний год жизни поэта побьет и эти рекорды. Точные расчеты показывают, что в течение этого года поэту-дипломату придется провести в дороге
Укажем только основные точки перемещений поэта (не перечисляя десятки и десятки мест стоянок по пути следования и не меньшее число мест ночевок) начиная с 30 января 1828 по 30 января 1829 года: Тавриз — Миане — Туркманчай — Тавриз — Нахичевань — Эривань — Тифлис — Владикавказ — Ставрополь — Новочеркасск — Воронеж — Тула — Москва — Новгород — Санкт-Петербург — Новгород — Москва — Тула и Тульская губерния — Воронеж — Новочеркасск — Ставрополь — Владикавказ — Тифлис — Гумри — Ахалкалаки (в действующей армии) — Тифлис — Цинандали — Тифлис — Эчмиадзин — Эривань — Нахичевань — Тавриз — Тегеран. Причем из примерно 100 дней-дорог почти ровно по половине — по 50 дней — поэт провел в движении по территории Персии и столько же по Кавказу и России.
А долгие места пребывания поэта в этот последний год выпадают только на 5 городов. Приведем их по мере уменьшения времени нахождения Грибоедова в том или ином городе:
1. Петербург — 82 дня (с короткими выездами из города, например в Кронштадт).
2. Тавриз — 63 дня (два коротких проезда и одно длительное пребывание).
3. Тифлис — 51 день (с учетом приезда в этот город не менее 5 раз, в том числе после поездок по Грузии).
4. Тегеран — 30 дней.
5. Москва — не более
В целом в Персии в свой последний год Грибоедов провел примерно 154 дня — более 5 месяцев, и как тут его не называть «персидским странником!».
Автору этой книги во время поездки в Тавриз посчастливилось проехать часть пути Грибоедова в сторону озера Урмия и Джульфы в конце ноября 2011 года, естественно, на машине, а не верхом, и я могу с полной ответственностью подтвердить, что дороги в тех горных и до сих пор диких краях суровы и опасны: уже в конце ноября везде лежал снег, дули пронизывающие ветры, а небо было покрыто серыми облаками. Сколько сил требовалось, чтобы почти два века назад преодолевать не современные асфальтированные дороги, а самые простые сельские дороги и горные тропы, да еще главным образом верхом, в морозы и вьюги, мне все равно трудно представить.
Еще в августе 1819 года в выдержках из письма «одного лица, причастного к русскому посольству» в Персии, в котором исследователь О. Попова узнала Грибоедова, опубликованных в петербургской газете «La Conservateur Impartial», поэт писал о тяжкой доле странников по Востоку: «Нужно знать, что такое значит путешествовать по Азии, чтобы судить о трудностях, которые нам пришлось перенести на пути от Тифлиса до места нашего назначения. Помимо скуки и усталости, неизбежной при продолжительном путешествии верхом, мы испытали всю жестокость необычайно суровой зимы, неудобства жилищ почти всегда без дверей и окон и встречали часто даже недостаток в дровах и других вещах, необходимых в жизни».
«В варварской земле в самое злое время года» пришлось не раз путешествовать поэту, и как надо было закалить себя и свой характер, чтобы переносить потом неоднократно дорожные тяготы лютой зимы или жары за 40 градусов. В феврале 1820 года Грибоедов откровенно и с иронией еще раз рассказывал П.А. Катенину о своей доле кавалериста-странника в чужих восточных землях: «Скажу об моем быту. Вот год с несколькими днями, как я сел на лошадь, из Тифлиса пустился в Иран, секретарь бродящей миссии. С тех пор не нахожу самого себя. Как это делается? Человек по 70ти верст верхом скачет каждый день, весь день разумеется, и скачет по два месяца сряду, под знойным персидским небом, по снегам в Кавказе, и промежутки отдохновения, недели две, много три, на одном месте! — И этот человек будто я? Положим, однако, что я не совсем с ума сошел, различаю людей и предметы, между которыми движусь…».
Заметим, что поэт постоянно писал о путешествиях именно верхом, и это в условиях бездорожья и горной местности было вполне объяснимо: движение в повозках, на арбах и т.д. было или просто невозможно, или требовало слишком много времени.
А ведь после всех этих откровений 1819—1820 годов поэта ждали еще более долгие странствия и испытания — без особых перерывов — почти на 9 лет. И видимо, нам следует пересмотреть свое отношение к классику русской литературы Грибоедову только как к интеллигенту и «умнейшему человеку в России»: он попутно был еще несгибаемым путешественником, испытанным воином и прекрасным кавалеристом, которому не были страшны преграды и трудности. Все эти примеры странствий поэта еще раз объясняют нам, почему же он оставил после себя так немного литературных творений. Силы-то у человека одни — и для творчества, и для службы, и для странствий!
Следует особо подчеркнуть, что Грибоедов воспринимал себя скорее драматургом, любившим стихотворную форму изложения, чем «традиционным поэтом», привыкшим часто и в разной форме отражать в стихах свои впечатления, в том числе страннические. Поэтому-то в наследии поэта так мало стихотворений, посвященных тем или иным конкретным местам России и Востока. В качестве обратного примера можно привести стихотворение «Хищники на Чегеме» (1825), описывающем реалии Кавказской войны.
Однако один город, а именно родная для Грибоедова Москва, удостоилась особого внимания поэта-драматурга и именно в его бессмертной комедии «Горе от ума», благодаря которой целая эпоха в истории белокаменной столицы России вошла в историю в качестве «Грибоедовской Москвы». И это произошло по праву. Никто до Грибоедова так ярко и талантливо не описывал жизнь московского общества. И приметы этой жизни вошли в плоть и кровь русского языка как устоявшиеся афоризмы:
Помилуйте, не вам, чему же удивляться?
Что нового покажет мне Москва?
Вчера был бал, а завтра будет два.
Тот сватался — успел, а тот дал промах.
Все тот же толк, и те ж стихи в альбомах.
...............................................................
Гоненье на Москву. Что значит видеть свет!
Где ж лучше? Где нас нет.
...............................................................
На листе черкни на записном,
Противу будущей недели:
К Прасковье Федоровне в дом
Во вторник зван я на форели.
...............................................................
Что за тузы в Москве живут и умирают! —
Пиши: в четверг, одно уж к одному,
А может в пятницу, а может и в субботу,
Я должен у вдовы, у докторши, крестить.
Она не родила, но по расчету
По моему: должна родить...
...............................................................
Да и кому в Москве не зажимали рты
Обеды, ужины и танцы?
.........................................................
Вон из Москвы! Сюда я больше не ездок.
В сценах из драмы «1812 год» чуть позднее Грибоедов вновь обращается к образу Москвы. Главный герой незаконченного произведения Петр Андреевич вот так выразил свое нежелание уезжать из столицы, несмотря на грозящую ей опасность:
А мне куда с тобой?.. Куда укрыться?
И если б мог бежать отселе я,
Нет! нет!.. Не оторвался б от тебя,
О матерь наша, мать России всей,
Кормилица моя, моих детей!
В тебе я мирно пожил, видел счастье, —
В тебе и гроб найду.
Однажды Грибоедов откровенно признался Булгарину: «Любезный Андрей. Мухи, пыль и жар, одурь берет на этой проклятой дороге, по которой я в 20й раз проезжаю без удовольствия, без желания: потому что против воли». Поэт не раз высказывался, что в «родимом доме» он чувствует себя «как на станции»: «Проеду, переночую, исчезну»! И определение «проклятое существование» для своего положения он использует не просто для красного словца, ведь ровно 10 лет назад Грибоедов начал свое бесконечное странствие по дорогам, тропам и извилинам судьбы, нигде не имея не только дома, если понимать под ним «родной очаг», но и просто постоянного места пребывания. Поэта можно было бы справедливо назвать «сиротой-скитальцем» или странником, выполнявшим какую-то неподвластную ему самому миссию. И он по праву вошел в историю русской литературы как один из самых непревзойденных поэтов-путешественников.
Александр Сергеевич Пушкин
(1799—1837)

Ах, Пушкин, Пушкин! Сколько всего написано о нем почти за 200 лет, сколько потаенных сторон жизни и творчества поэта было вскрыто его современниками и исследователями. Но ещё остались зияющие пустоты в ускользающем портрете человека, которому суждено было заложить краеугольные камни в здание русской поэзии и литературы. И, пожалуй, самое обидное упущение связано с тем, что до сих пор не воссоздана со всей яркостью и широтой странническая ипостась великого поэта, его сильнейшая страсть к путешествиям, а также многие скрытые черты его конкретных странствий.
Пушкин не просто любил путешествовать, в своих странствиях он получал необычный творческий импульс, «полнясь пространством и временем». «Петербург душен для поэта. Я жажду краёв чужих, авось полуденный воздух оживит мою душу», — писал он 21 апреля 1820 года, отправляясь в вынужденное путешествие на южные окраины России. Именно с этого первого длительного странствия и началось время скитаний поэта по просторам Отечества. В повести «Станционный смотритель» он словами своего героя сказал: «...В течение 20 лет сряду изъездил я Россию по всем направлениям...»
Долго ль мне гулять на свете
То в коляске, то верхом,
То в кибитке, то в карете,
То в телеге, то пешком?
Не в наследственной берлоге,
Не средь отческих могил,
На большой мне, знать, дороге
Умереть Господь судил... —
писал поэт об этих странствиях в 1829 году в своем шедевре «Дорожные жалобы». По признанию И.И. Пущина, «простор и свобода, для всякого человека бесценные, для него были сверх того могущественнейшими вдохновителями».
Дотошными исследователями подсчитано, что только по почтовым дорогам и трактам за свою жизнь Пушкин проехал около 35 тысяч вёрст (русская верста равнялась 500 саженям или 1,0668 километра). Для сравнения укажем, что это больше расстояния всех переходов путешественника Н.М.Пржевальского. Лишь в Торжке, что лежит на пути между Москвой и Петербургом, поэт побывал более 20 раз. Он посетил сотни губернских и уездных городов, деревень, поселков и станиц, усадеб и имений, останавливаясь на многочисленных почтовых станциях, где нужно было менять лошадей. У поэта не было своего экипажа, и ему приходилось отправляться в дорогу на перекладных, или почтовых, как назывались казенные лошади, нанимавшиеся на станциях. Ехать на них можно было только с подорожной — документом, в котором обозначался маршрут следования, фамилия и должность ехавшего, цель — казенная или личная — поездки, и сколько лошадей можно тому или иному путнику выдать, что строго регламентировалось высочайшими повелениями. Пушкин, получивший после окончания лицея чин коллежского секретаря (10й класс), а с 1831 года — титулярного советника (13й класс), имел право только на три лошади.
Причем за почтовых лошадей всегда брались прогонные деньги (к примеру, за каждую лошадь и версту от Москвы до Петербурга бралось по 10, а на других трактах — по 8 копеек). «Дорожник» за 1829 год советовал, что если путешественник «прибавит сверх прогонов по копейке на версту, а ещё лучше на лошадь, то ямщик за то припрягает лишнюю лошадь, исправляет повозку проворнее, подвязывает к дуге пару звонких колокольчиков, мчит седока, как из лука стрела...» По правилам того времени, «обыкновенных проезжающих», ехавших «по своей надобности», можно было возить не более 12 вёрст в час зимою, летом — не более 10, а осенью — не более 8 вёрст. Однако в день при быстрой езде проезжали более 100 вёрст, а по хорошей дороге в случае уговора с лихим возницей — «Ну, ямщик, с горы на горку, / А на водку барин даст», — и до 200 вёрст в сутки.
Так и представляешь, как Пушкин едет на своей казенной тройке по необъятным снегам и колючему морозцу и сочиняет при этом в голове бессмертные строки:
По дороге зимней, скучной
Тройка борзая бежит,
Колокольчик однозвучный
Утомительно гремит.
Что-то слышится родное
В долгих песнях ямщика:
То разгулье удалое,
То сердечная тоска...
Ни огня, ни чёрной хаты...
Глушь и снег... Навстречу мне
Только вёрсты полосаты
Попадаются одне.
Или о том же самом, но чуть позднее:
В поле чистом серебрится
Снег волнистый и рябой.
Светит месяц, тройка мчится
По дроге столбовой.
Пой: в часы дорожной скуки,
На дороге, в тьме ночной
Сладки мне родные звуки
Звонкой песни удалой.
Пой, ямщик! Я молча, жадно
Буду слушать голос твой.
Месяц ясный светит хладно,
Грустен ветра дальный вой.
Ох, как много мы потеряли, странствуя ныне в автомобилях, самолетах и поездах: мы лишились главного, что составляло основное очарование и в то же время дарило серьезные испытания во время путешествий прошлых эпох — прямой и непосредственный контакт с живой природой во всех ее проявлениях, в том числе и губительных для человека. Вспомним «Бесы» Пушкина, в которых гениально воссоздана мистическая и тяжкая ипостась русских дорог:
Мчатся тучи, вьются тучи;
Невидимкою луна
Освещает снег летучий;
Мутно небо, ночь мутна.
Еду, еду в чистом поле;
Колокольчик дин-дин-дин...
Страшно, страшно поневоле
Средь неведомых равнин!..
Хоть убей, следа не видно;
Сбились мы. Что делать нам!
В поле бес нас водит, видно,
Да кружит по сторонам.
В дороге действительно могло происходить и происходило всякое: от мелких неприятностей до встречи с разбойниками или чумой. Вот маленькая зарисовка из письма поэта В.П. Зубову 1 декабря 1826 года: «Я... выехал
Кибитки, коляски, сани, кареты, пошевни, возки, дрожки, линейки, дормезы, телеги, верховых лошадей и Бог знает, что ещё, использовал во время своих странствий Пушкин. Представим себе, сколько времени приходилось ему проводить в тряске по бесконечным русским дорогам, и поймем, что дорожные думы и переживания поэта — неотъемлемая часть его жизни и творческих исканий. А сами дороги поэт знал намного лучше других. В седьмой главе «Евгения Онегина» он даже мечтал, что
Лет чрез пятьсот... дороги, верно,
У нас изменятся безмерно:
Шоссе Россию здесь и тут,
Соединив, пересекут.
Мосты чугунные чрез воды
Шагнут широкою дугой,
Раздвинем горы, под водой
Пророем дерзостные своды...
Однако реальность того времени, «с колеями и рвами отеческой земли», была совсем другой:
Теперь у нас дороги плохи,
Мосты забытые гниют,
На станциях клопы да блохи
Заснуть минуты не дают;
Трактиров нет. В избе холодной
Высокопарный, но голодный
Для вида прейскурант висит
И тщетный дразнит аппетит...
Послушаем, что писал Пушкин о русских дорогах в своем «Путешествии из Москвы в Петербург (эти слова звучат актуально и для наших дней): «Вообще дороги в России (благодаря пространству) хороши и были бы еще лучше, если бы губернаторы менее об них заботились... Лет 40 тому назад один воевода, вместо рвов, поделал парапеты, так что дороги сделались ящиками для грязи. Летом дороги прекрасны; но весной и осенью путешественники принуждены ездить по пашням и полям, потому что экипажи вязнут и тонут на большой дороге, между тем как пешеходы, гуляя по парапетам, благословляют память мудрого воеводы. Таких воевод на Руси весьма довольно».
Радовала поэта лишь зимняя езда по снегам России:
Зато зимы порой холодной
Езда приятна и легка.
Как стих без мысли в песне модной —
Дорога зимняя гладка.
Автомедоны наши бойки,
Неутомимы наши тройки,
И версты, теша праздный вздор,
В глазах мелькают как забор.
Именно после этих строк приближающийся к Москве вместе со своим героем Онегиным Пушкин написал всем известные с детства слова, которые ярче всего отражают его странническую судьбу:
Как часто в горестной разлуке,
В моей блуждающей судьбе,
Москва, я думал о тебе!
Поэт-скиталец, блуждающий по России, даже простую, скрипучую телегу представил как образ времени в своем шедевре «Телега жизни», где скорость движения этого народного вида транспорта он олицетворил с периодами жизни человека:
Хоть тяжело подчас в ней бремя,
Телега на ходу легка;
Ямщик лихой, седое время,
Везёт, не слезет с облучка...
Катит по-прежнему телега:
Под вечер мы привыкли к ней
И дремля едем до ночлега,
А время гонит лошадей.
Как же много гениальных творений родились у Пушкина в дороге, и неописуемо жаль, что ему, проехавшему «от западных морей до самых врат восточных» по территории Российской империи, так и не суждено было увидеть дальние страны, где его талант, несомненно, заблистал бы новыми красками. Если же взглянуть на карту пушкинских путешествий, то самыми крайними точками окажутся: на севере Петербург и Кронштадт, на юге — Карс и Арзрум, на западе — Измаил, Тульчин и Псков, а на востоке — Оренбург и Бердская слобода.
Сенека как-то сказал, что человек должен первые 30 лет учиться, вторые — путешествовать, а третьи — рассказывать о своей жизни, учить молодых и творить. В письме к Плинию он красноречиво писал: «Ты не странствуешь, не тревожишь себя переменою мест. Ведь метания — признак большой души... Я думаю, что первое доказательство спокойствия духа — способность жить оседло и оставаться самим собой». Как удивительно, что русская поэзия подарила нам намного больше поэтов «с метаниями», не «оседлых» и не «спокойных духом», чем «не странствовавших» и не тревоживших себя «переменой мест». К числу подвижников странствий (не важно — вольных или невольных) можно без преувеличений отнести и Грибоедова, и Пушкина, и Лермонтова, и Бунина, и Гумилева, и Бальмонта, и Волошина, чьи души питались новыми жизненными соками именно в дороге, в пути, на перекрестках параллелей и меридианов, пусть даже для некоторых из них эти параллели и меридианы вообще не убегали за русские границы, а сами странствия были не совсем добровольными.
В первое свое долгое странствие Пушкин тоже отправился не по своей воле. За вольнолюбивые стихи и эпиграммы он был выслан из Петербурга, хотя сама ссылка и была обставлена лишь как перевод поэта по службе — он был прикомандирован к канцелярии генерала И.Н. Инзова, попечителя над иностранными колонистами на юге России, впоследствии наместника Бессарабии. 5 мая 1820 года Пушкину была выдана подорожная за № 2295: «...Показатель сего, Ведомства Государственной коллегии иностранных дел Коллежский секретарь Александр Пушкин, отправлен по надобностям службы к Главному попечителю колонистов Южного края России, г. Генерал-Лейтенанту Инзову...» И, конечно, молодой ссыльный не мог знать, что суждено ему будет уехать из Петербурга на долгие 7 лет: он вернется в Москву из ссылки в Михайловском только 8 сентября 1826 года, а в Петербурге появится и вообще лишь 23 мая 1827 года. И увидит поэт за это время самые разные края: Кавказ (более двух месяцев лета 1820 года), Крым (3 недели в августе-сентябре 1820 года), Украину (лето и осень 1820 года, зима 1821 года, 1823 год), Молдавию (многочисленные поездки
Напомним, что поэт находился в тех краях по долгу службы, хотя он и часто писал о себе, как о вольном страннике: «Здесь, лирой северной пустыни оглашая, скитался я...» С бывшим храбрым боевым генералом Инзовым у него сложились прекрасные отношения, что очень помогало поэту по службе. По ходатайству генерала перед начальством, Пушкину удалось перевестись из Кишинева в Одессу к Новороссийскому и Бессарабскому генерал-губернатору М.С.Воронцову. Однако через некоторое время с новым начальником у Пушкина испортились отношения, опальный поэт стал вести себя слишком дерзко и попросил отставки. В итоге все кончилось весьма печально: 11 июля 1824 года в Одессе было получено предписание: Пушкина «исключить из списка Министерства иностранных дел за дурное поведение» и выслать в Псковскую губернию, в село Михайловское, где его ждало более двух лет изоляции (с 9 августа 1824 по 4 сентября 1826 года) лишь с кратковременной отлучкой в Псков.
Годы южной ссылки были одними из самых благодатных в жизни Пушкина, по сути, они сделали из него поэта, известного всей России. Достаточно сказать, что за эти годы им были созданы больше 125 стихотворений, в том числе «Песнь о вещем Олеге», первые главы «Евгения Онегина», а также ключевые для его творчества поэмы «Кавказский пленник», «Бахчисарайский фонтан» и «Цыганы». И совсем не удивительно, что в творчестве поэта засверкали совершенно новые мотивы и краски, связанные со сквозной и очень важной для него темой Востока. Так уж получилось, что эта тема оказалась одной из центральных в творчестве трех великих поэтов «золотого века русской поэзии» — Грибоедова, Пушкина и Лермонтова.
А чего вообще следовало ожидать от молодого, романтически настроенного Пушкина, перед которым открылся неведомый ему ранее мир Востока, который он увидел и на Кавказе, и в Крыму, и в частичном, обрывочном виде в Бессарабии и на юге Украине? Все эти пограничные земли империи многие века находились в орбите и военного, и религиозного, и политического соперничества России с ее южными соседями. Реалии Востока были здесь просто на каждом шагу. Даже в Одессе поэт попадал в иной мир, когда
...За трубкой раскаленной,
Волной соленой оживленный,
Как мусульман в своем раю,
С восточной гущей кофе пью.
А в Крыму, в Гурзуфе поэт поселил героя своей незаконченной сказки Мехмета, с весьма показательными характеристиками:
Недавно бедный музульман
В Юрзуфе жил с детьми, с женою;
Душевно почитал священный Алькоран —
И счастлив был своей судьбою...
Народы, языки, религии и обычаи — всё смешалось на южных просторах России, и поэт не мог не отражать в своих стихах этой удивительной пестроты:
Теснится средь толпы еврей сребролюбивый.
Под буркою казак, Кавказа властелин,
Болтливый грек и турок молчаливый,
И важный перс, и хитрый армянин...
А сколько чудес дарил новый мир дикой природы:
Забытый светом и молвою,
Далече от брегов Невы,
Теперь я вижу пред собою
Кавказа гордые главы.
Над их вершинами крутыми,
На скате каменных стремнин,
Питаюсь чувствами немыми
И чудной прелестью картин...
В письме к брату Пушкин писал: «Два месяца жил я на Кавказе... Жалею, мой друг, что ты со мною вместе не видел великолепную цепь этих гор; ледяные их вершины, которые издали, на ясной заре, кажутся странными облаками разноцветными и недвижными; жалею, что не всходил со мною на острый верх пятихолмного Бешту, Машука, Железной горы, Каменной и Змеиной. Кавказский край, знойная граница Азии, любопытен во всех отношениях».
Поэт глубже и глубже погружался в этот загадочный восточный мир и оставлял его яркие блёстки, в том числе об исламе и Коране («Его таинственная сила.../ Слова святые начертила»), в своих стихотворных набросках:
В пещере тайной, в день гоненья,
Читал я сладостный Коран,
Внезапно ангел утешенья,
Влетев, принес мне талисман.
Пушкин действительно привёз с юга сердоликовый перстень-печатку, ставший его знаменитым талисманом, но, к сожалению, впоследствии не сохранившийся:
Там, где море вечно плещет
На пустынные скалы,
Где луна теплее блещет
В сладкий час вечерней мглы,
Где, в гаремах наслаждаясь,
Дни проводит мусульман,
Там волшебница, ласкаясь,
Мне вручила талисман.
Позже поэт, мечтая и о странствиях, и о покое, и о военных подвигах, не раз вспоминал свой талисман:
В уединенье чуждых стран,
На лоне скучного покоя,
В тревоге пламенного боя
Храни меня, мой талисман.
Уже в первых своих стихах, написанных на юге, поэт, назвавший себя «искателем новых впечатлений», «изгнанником неизвестным», «на скифских берегах переселенцем новым», воспевает свое бегство с Родины («Я вас бежал, отечески края...», «Мне моря сладкий шум милее»):
Шуми, шуми, послушное ветрило,
Волнуйся подо мной, угрюмый океан.
Лети, корабль, неси меня к пределам дальным
По грозной прихоти обманчивых морей,
Но только не к брегам печальным
Туманной родины моей...
И вот уже вскоре поэт, увидевший «лазурь чужих небес, полдневные края», «сады татар, селенья, города», «чуждые поля и рощи», «холмы Тавриды, край прелестный», может с гордостью написать:
Я видел Азии бесплодные пределы,
Кавказа дальний край, долины обгорелы,
Жилище дикое черкесских табунов,
Подкумка знойный брег, пустынные вершины,
Обвитые венцом летучим облаков,
И закубанские равнины!
Ужасный край чудес!..
Причем всё увиденное поэт воспринимал со страстью и любопытством. Он умел гениально чувствовать дух каждого края и его народа, неповторимо передавать красоты увиденных им пейзажей и природных мест. Говоря о горячности поэта, следует лишь упомянуть, что в 1821 году в Молдавии Пушкин, очарованный цыганами, ушел в табор и странствовал с ним некоторое время:
Встречал я посреди степей
Над рубежами древних станов
Телеги мирные цыганов,
Смиренной вольности детей.
За их ленивыми толпами
В пустынях часто я бродил.
Простую пищу их делил
И засыпал пред их огнями.
А когда в том же году вспыхнуло восстание греков против османского ига, Пушкин настолько рьяно рвался им на помощь, как и многие другие добровольцы («увижу кровь, увижу праздник мести... и смерти гордой ожиданье», — писал он тогда), что в Москве даже прошел слух, будто он находится в армии восставших греков. Летом же 1824 года в Одессе, находясь в тяжелом состоянии духа, поэт вообще замыслил «поэтический побег» из России за границу морем, в чем ему готовы были помочь Е.К. Воронцова и В.Ф. Вяземская. Пушкин признавался тогда, что хочется ему «взять тихонько трость и шляпу и поехать посмотреть на Константинополь». Однако чувство любви и привязанность к друзьям остановили поэта:
Могучей страстью очарован,
У берегов остался я.
В Кишиневе Пушкин сблизился с будущим популярным прозаиком А.В. Вельтманом. Они встретились снова лишь десять лет спустя, в 1831 году в Москве, и как знаменательно, что поэт, прекрасно знавший творчество Вельтмана, успел тогда познакомиться с одним из самых известных романов писателя, показательно названным «Странник» (уж очень модным стало в ту бурную эпоху это слово, ведь произведения с такими названиями встречаются, пожалуй, у большинства русских поэтов того времени, в том числе у Пушкина и Грибоедова). Поэт неоднократно рвался куда-то в самые дальние дали, не в Европу даже, а в загадочные «отдаленные страны», в том числе, конечно, и восточные, хотел начать «вольный бег по вольному распутью моря». В 1823 году он выразил это своеобразным гимном океану в стихотворении, обращенном к неизвестному моряку:
Дай руку — в нас сердца единой страстью полны.
Для неба дального, для отдаленных стран
Оставим берега Европы обветшалой;
Ищу стихий других, земли жилец усталый;
Приветствую тебя, свободный океан.
В этот период у поэта появилась страстная тяга к морским просторам и ко всему, что с ними связано: кораблю («Морей красавец окриленный! / Тебя зову — плыви, плыви...») и ветру («Ты ветер, утренним дыханьем / Счастливый парус напрягай...»). Позднее, находясь в ссылке в Михайловском, как бы предвидя, что ему не суждено уже будет увидеть море, Пушкин написал прощальную оду «К морю»:
Прощай свободная стихия!
В последний раз передо мной
Ты катишь волны голубые
И блещешь гордою красой...
Прощай же, море! Не забуду
Твоей торжественной красы
И долго, долго слышать буду
Твой гул в вечерние часы.
В леса, в пустыни молчаливы
Перенесу, тобою полн,
Твои скалы, твои заливы,
И блеск, и тень, и говор волн.
Именно в Михайловском, «в глуши, во мраке заточенья», поэт снова вернулся к теме своего побега, обращаясь к своему брату: «Благослови побег поэта...». Он объяснил свою цель побега и желания оказаться «под небом дальным», «в чуждой стороне», следующими строками:
Иду в чужбине прах отчизны
С дорожных отряхнуть одежд.
Поэт ещё долго мечтал о морских просторах, о бегстве в неведомые земли. По его словам, он «оставить был совсем готов / Неволю невских берегов» или отправиться в «чёрный отдалённый путь». Огромное влияние на Пушкина оказало в тот период появление «Горя от ума», тем более что к его автору поэт всегда испытывал добрые чувства и уважение. Комедия Грибоедова оказала сильное воздействие на многие произведения Пушкина, особенно на «Бориса Годунова» и «Евгения Онегина». Не вдаваясь в подробности и не упоминая скрытые параллели и созвучия, укажем лишь на то, что в «Онегине» поэт трижды прямо ссылается на «Горе от ума»: в шестой главе, когда он воспроизводит строку Грибоедова: «И вот общественное мненье!»; в эпиграфе к седьмой главе со словами из комедии: «Гоненье на Москву! что значит видеть свет! / Где ж лучше? / Где нас нет»; и в восьмой главе, где Онегин, «убив на поединке друга», «ничем заняться не умел» и отправился в путешествие:
Им овладело беспокойство,
Охота к перемене мест
(Весьма мучительное свойство,
Не многих добровольный крест).
Оставил он свое селенье,
Лесов и нив уединенье...
И начал странствия без цели,
Доступный чувству одному;
И путешествия ему,
Как всё на свете, надоели;
Он возвратился и попал,
Как Чацкий, с корабля на бал.
Здесь Пушкин не только следует за Грибоедовым, который писал о чувствах, «Которые во мне ни даль не охладила, / Ни развлечения, ни перемена мест», но и прямо сравнивает Онегина с Чацким, загадывая нам очередную загадку: а где же странствовал главный герой пушкинского поэтического воображения? Там же где и Чацкий? Вспомним, что Чацкий появляется зимним утром 1819 г. в московском доме Фамусова после того, как провел три года где-то в далеких краях, и, проехав на лошадях больше семисот верст, видимо, из Петербурга в Москву. Очевидно, что в Россию Чацкий прибыл водным путем, вероятнее всего, с лечебных вод (в Германии?), в комедии упоминается также, что он побывал во Франции. Получается, что и Онегин, отсутствовавший также три года, тоже «на корабле» вернулся в Петербург из Европы. Однако, не все так просто.
Дело в том, что в 1827 году Пушкин хотел в своих черновиках ввести путешествие Онегина в седьмую главу романа в стихах, написав, что его герой, «убив неопытного друга», решился «в кибитку сесть» и отправился, скорее всего, за границу:
Ямщик удалый засвистал,
И наш Онегин поскакал
Искать отраду жизни скучной —
По отдалённым сторонам,
Куда не зная точно сам.
Потом, в 1830 г., поэт решил посвятить путешествиям Онегина отдельную восьмую главу, и весьма важно, что тогда в плане всех глав он назвал её «Странствие». Однако в 1831 г. Пушкин изменил свое намерение, вынув «Странствие» из системы глав и поместив отрывки из «Путешествия Онегина» в качестве отдельного приложения к своему роману. Сам поэт позднее чистосердечно признался в предисловии к этим отрывкам, что «он выпустил из своего романа целую главу, в коей описано было путешествие Онегина по России», причем «по причинам, важным для него, а не для публики». При этом, публикуя отрывки, автор не включил в них следующую ключевую строфу, в которой прямо говорилось о европейских странствиях Онегина:
Наскуча или слыть Мельмотом
Иль маской щеголять иной,
Проснулся раз он патриотом
Дождливой, скучною порой.
Россия, господа, мгновенно
Ему понравилась отменно,
И решено. Уж он влюблен,
Уж Русью только бредит он,
Уж он Европу ненавидит
С её политикой сухой,
С её развратной суетой.
Онегин едет; он увидит
Святую Русь: её поля,
Пустыни, грады и моря.
Вот так и получилось, что в своем романе Пушкин вообще не поместил прямых свидетельств о заграничном вояже Онегина. Владимир Набоков в своих обстоятельных «Комментариях к „Евгению Онегину“ Александра Пушкина» был совершенно прав, когда писал, что «в окончательном тексте» романа «мы не находим ничего такого, что давало бы веские основания исключить возможность странствий Онегина (после того, как он побывал на черноморских берегах...) по Западной Европе, откуда он и возвращается в Россию». Однако, согласно исследованиям того же Набокова, получается, что, выехав из Петербурга вскоре после дуэли летом 1821 г., Онегин направился в Москву, Нижний, Астрахань и на Кавказ, осенью 1823 года он попал в Крым, навестил Пушкина в Одессе и в августе 1824 года возвратился в Петербург, «закончив круг своего русского путешествия, — никакой возможности того, что побывал и за границей, не остается».
Нам следует только добавить очень важное замечание. Фактически Онегин странствует только путями самого автора: по России, Кавказу, Крыму, Украине:
Тоска, тоска! спешит Евгений
Скорее далее: теперь
Мелькают мельком, будто тени,
Пред ним Валдай, Торжок и Тверь...
Он скачет сонный. Кони мчатся
То по горам, то вдоль реки,
Мелькают вёрсты, ямщики
Поют, и свищут, и бранятся.
Пыль вьётся. Вот Евгений мой
В Москве проснулся на Тверской.
Жизнь не подарила тогда Пушкину других больших странствий, хотя в период написания романа он несколько раз надеялся на свои путешествия за границу. Поэтому-то глава «Путешествие Онегина» и осталась незаконченной: поэт не хотел писать о том, чего сам не видел. Однако позднее, в 1829 году, Пушкин все-таки совершил самое дальнее и самое захватывающее в своей жизни путешествие в Эрзурум, стремясь поучаствовать вслед за своими друзьями, в том числе и Грибоедовым, в военных событиях на Востоке. Эта странническая эпопея заслуживает отдельного и весьма подробного описания. Здесь же отметим лишь самые важные ее приметы.
Снова ощутив благотворное влияние Востока, Пушкин создает во время своего длительного путешествия и позднее новые поэтические шедевры: «На холмах Грузии лежит ночная мгла...», «Калмычке», «Олегов щит», «Дон», «Брожу ли я вдоль улиц шумных...», «Кавказ», «Обвал», «Делибаш», «Монастырь на Казбеке», «Опять увенчаны мы славой...», «Был и я среди донцов...», «Меж горных стен несется Терек...», «Стамбул гяуры нынче славят...», «Подражание арабскому», «Когда владыка ассирийский...», «Золото и булат», неоконченную поэму «Тазит». И как бы восторженно не звучали все эти стихи, в них то и дело слышалась печальная нота тягостных предчувствий:
День каждый, каждую годину
Привык я думой провождать,
Грядущей смерти годовщину
Меж их стараясь угадать.
И где мне смерть пошлет судьбина?
В бою ли, в странствии, в волнах?
Или соседняя долина
Мой примет охладелый прах?
Совершая свой побег на Кавказ, Пушкин как будто бы бежал еще дальше — к «вольному» небу, «вожделенному» свету и «вечным лучам», а иначе к Богу. Горный монастырь на Казбеке поэт отчетливо увидел в образе спасительного ковчега:
Высоко над семьею гор,
Казбек, твой царственный шатер
Сияет вечными лучами.
Твой монастырь над облаками,
Как в небе реющий ковчег,
Парит, чуть видный, над горами.
Далекий, вожделенный брег!
Туда б, сказав прости ущелью,
Подняться к вольной вышине!
Туда б, в заоблачную келью,
В соседство Бога скрыться мне!..
Путешествие в Арзрум было одним из самых тяжелых испытаний в жизни поэта, прежде всего, потому, что его ждали трудности долгого и изнурительного пути то верхом, то пешком, бывало по
Поездка на Восток на время успокоила страсть Пушкина к путешествиям, но уже в конце 1829 года он написал, по сути, программное стихотворение и для самого себя, и для многих путешественников, назвав несколько мест, которые ему хотелось бы посетить:
Поедем, я готов; куда бы вы, друзья,
Куда б ни вздумали, готов за вами я
Повсюду следовать, надменной убегая:
К подножию ль стены далёкого Китая,
В кипящий ли Париж, туда ли наконец,
Где Тасса не поёт уже ночной гребец,
Где древних городов под пеплом дремлют мощи,
Где кипарисные благоухают рощи,
Повсюду я готов. Поедем... но, друзья,
Скажите: в странствиях умрет ли страсть моя?
В этом стихотворении поэт упомянул несколько стран, куда влекли его мечты странника — Китай, Францию, а также Италию и, вероятно, Испанию. В данное время, опасаясь отказа в сватовстве, Пушкин признавался в своем незаконченном отрывке «Участь моя решена, я женюсь...», переведенном якобы с французского, о своем твердом и навязчивом желании уехать подальше от родных просторов: «Если мне откажут, думал я, поеду в чужие края, — и уже воображал себя на пироскафе. Около меня суетятся, прощаются, носят чемоданы, смотрят на часы. Пироскаф тронулся, морской, свежий воздух веет мне в лицо; я долго смотрю на убегающий берег — My native land, аdieu. (Моя родная земля, прощай. — Англ.)». Причем поэту почти неважно было, куда ехать. В том же 1830 году в «Домике в Коломне» поэт признавался, что ему все кажется, «что в тряском беге / По мерзлой пашне мчусь я на телеге»:
Что за беда? не все ж гулять пешком
По невскому граниту иль на бале
Лощить паркет или скакать верхом
В степи киргизской. Поплетусь-ка дале,
Со станцию на станцию шажком...
Однако его надеждам на новое путешествие не суждено было сбыться. 17 января он получил ответ Бенкендорфа с уведомлением, что император «не соизволил снизойти на вашу просьбу посетить заграничные страны, полагая, что это слишком расстроит ваши денежные дела, а кроме того слишком отвлечет вас от ваших занятий. Ваше желание сопровождать нашу миссию в Китай так же не может быть удовлетворено, потому что все входящие в нее лица уже назначены и не могут быть заменены другими без уведомления о том Пекинского двора». Как же Николай I не хотел никуда отпускать поэта, в первую очередь, в силу его сомнительной «неблагонадежности». В марте 1830 года он не отпустил Пушкина даже в Полтаву с Николаем Раевским.
А что же тема побега? Продолжала ли она будоражить сердце поэта или навсегда ушла в прошлое после арзрумских скитаний? В феврале 1830 года поэт еще писал К.Собаньской, что его «прельщает... одна лишь мысль о том, что когда-нибудь у меня будет клочок земли в... Крыму». Однако через некоторое время появляется новый мотив: поэт еще раз подтверждает свое намерение уехать далеко-далеко, но уже с важным уточнением: «В пустыню скрыться я хочу... Стремлюсь привычною мечтою / К студёным северным волнам», то есть не к южным морям и восточным пределам, а к просторам Русского Севера. В том же году поэт уже по-новому интерпретировал цыганскую вольницу, выбрав для себя «тишину и сельскую негу»:
Здравствуй, счастливое племя!
Узнаю твои костры;
Я бы сам в иное время
Провождал сии шатры.
Завтра с первыми лучами
Ваш исчезнет вольный след.
Вы уйдете — но за вами
Не пойдет уже поэт.
Он бродящие ночлеги
И проказы старины
Позабыл для сельской неги
И домашней тишины.
Вскоре свадьба и семейная жизнь почти полностью изменили вектор возможного побега поэта. Уже 29 июня 1831 года в письме П.А.Осиповой Пушкин просил продать ему деревушку Савкино: «Я бы выстроил себе там хижину, поставил бы свои книги и проводил бы подле добрых старых друзей несколько месяцев в году. Что скажете вы, сударыня, о моих воздушных замках, иначе говоря о моей хижине в Савкине? — меня этот проект приводит в восхищение и я постоянно к нему возвращаюсь». Позднее, в 1834 г., поэт уже откровенно видел цель своего побега в спасительных русских просторах, в обычной и спокойной сельской жизни, в очаровании тех же, сельских, нег:
Пора, мой друг, пора!
Покоя сердце просит…
На свете счастья нет, но есть покой и воля.
Давно завидная мечтается мне доля —
Давно, усталый раб, замыслил я побег
В обитель дальную трудов и чистых нег.
Этот же порыв к поиску и созиданию своего дома, своей обители Пушкин повторил и прозаически. В рукописи, продолжающей приведенные выше хрестоматийные строки, есть такие мудрые слова: «Юность не имеет нужды в at home (своем доме. — Англ.), зрелый возраст ужасается своего уединения. Блажен кто находит подругу — тогда удались он домой. О, скоро ли перенесу я мои пенаты в деревню — поля, сад, крестьяне, книги: труды поэтические — семья, любовь etc. — религия, смерть». А еще позднее, в 1835 году, в программном для себя стихотворении «Странник», посвященном как раз побегу героя от людей и даже от семьи, Пушкин ещё раз подтвердил направление своих страннических мечтаний:
Пошел я вновь бродить, уныньем изнывая
И взоры вкруг себя со страхом обращая.
Как раб, замысливший отчаянный побег.
Иль путник, до дождя спешащий на ночлег.
Духовный труженик — влача свою веригу,
Я встретил юношу, читающего книгу.
Поэт-путник спросил юношу: «Куда ж бежать? Какой мне выбран путь?» На уточнение поэта, что он видит «некий свет», юноша дал страннику ясный и очень важный совет:
«Иди ж, — он продолжал, — держись сего ты света;
Пусть будет он тебе единственная мета,
Пока ты тесных врат спасенья не достиг,
Ступай!» — И я бежать пустился в тот же миг.
Показательно, что почти следом за этими строками Пушкин написал стихотворение о Михайловском («…Вновь я посетил…»). Поэт, преодолевая преграды и сомненья («Напрасно я бегу к сионским высотам, / Грех алчный гонится за мною по пятам…»),
как бы вернулся, после всех скитаний и странствий («Недаром тёмною стезёй / Я проходил пустыню мира…»), к очевидному выводу, ранее высказанному им не один раз:
Всё те же мы: нам целый мир чужбина;
Отечество нам Царское Село.
И имел здесь в виду поэт, конечно, в целом родную землю. Скитания Пушкина в итоге укрепили его неразрывную, кровную связь с Россией и ее природой. Однако все происходившее вокруг, тягости столичной жизни и ежедневная погоня за благополучием своей семьи не могли не обострять мрачные настроения поэта, которые он гениально отразил в строках, которые звучат как явная перекличка с «Горем от ума», постоянно, как тень, сопровождавшим Пушкина в его жизненных перипетиях:
Не дай мне Бог сойти с ума.
Нет, легче посох и сума,
Нет, легче труд и глад.
Не то, чтоб разумом моим
Я дорожил; не то, чтоб с ним
Расстаться был бы рад…
Да вот беда: сойди с ума,
И страшен будешь как чума,
Как раз тебя запрут,
Посадят на цепь дурака
И сквозь решетку как зверька
Дразнить тебя придут.
Свое последнее крупное путешествие в жизни, которое долго назревало (поэт писал еще в феврале 1833 года П.В. Нащокину: «Путешествие нужно мне нравственно и физически»), Пушкин совершил с 17 августа 1833 года, когда он отправился из Петербурга через Москву в Нижний Новгород, Казань, Симбирск, Оренбург, Уральск и, пробыв в Болдино около 40 дней, вернулся в столицу 20 ноября того же года. Поездка, одобренная императором, была нужна поэту для сбора материалов по «Истории Пугачева» и «Капитанской дочки», и совершенно очевидно, что преодолев в восточном направлении только от Москвы до Уральска около 1800 верст, поэт не мог не увидеть воочию ранее неизвестные ему приметы Востока на дальних просторах своего Отечества, населенных разными народами. «Я прочел со вниманием все, что было напечатано о Пугачеве… Я посетил места, — объяснял он впоследствии, — где произошли главные события эпохи, мной описанной, поверяя мертвые документы словами еще живых, но уже престарелых очевидцев…» Естественно, в пути не обошлось без приключений и тягостей, столь знакомых страннику Пушкину.
Совершенные в 1833 году странствия пробудили в поэте жажду новых путешествий. Находясь в Болдине, поэт написал свою непревзойденную «Осень» с ее бессмертными строками: «Унылая пора! Очей очарованье!», но закончил он это стихотворение показательным сравнением своего поэтического вдохновения с готовым к отплытию кораблем:
…Минута — и стихи свободно потекут.
Так дремлет недвижим корабль в недвижной влаге,
Но чу! — матросы вдруг кидаются, ползут
Вверх, вниз — и паруса надулись, ветра полны;
Громада двинулась и рассекает волны…
Плывет. Куда ж нам плыть?
И на этот вопрос ответил сам поэт, хотя он и сделал это в черновом варианте последней строфы стихотворения:
Ура!.. куда же плыть? какие берега
Теперь мы посетим: Кавказ ли колоссальный,
Иль опаленные Молдавии луга,
Иль скалы дикие Шотландии печальной,
Или Нормандии блестящие снега,
Или Швейцарии ландшафт пирамидальный.
Здесь Пушкин добавил к списку вожделенных им мест и стран не только уже виденные им Кавказ и Молдавию, но и западноевропейские края. При этом в черновике «Осени» поэт упомянул также тех «знакомцев дальних», которых привыкла лелеять его мечта, смешав и Восток, и Запад:
Стальные рыцари, угрюмые султаны,
Монахи, карлики, арапские цари,
Гречанки с четками, корсары, богдыханы,
Испанцы в епанчах, жиды, богатыри.
В последний год жизни настроения поэта менялись, и он уже не так истово рвался в дорогу, особенно учитывая его семейные дела. Но он до конца оставался верен Музе странствий, помня о своих былых путешествиях. Под конец жизни не утерял поэт и интереса к истории. Обращаясь к Ювеналу, он писал тогда: «Ты к мощной древности опять меня манишь…» Поэт в этот период лишь окончательно менял вектор своих устремлений. Вот как гениально он высказал эти настроения в своих стихах:
В ту пору мне казались нужны
Пустыни, волн края жемчужны,
И моря шум, и груды скал,
И гордой девы идеал,
И безымянные страданья…
Другие дни, другие сны;
Смирились вы, моей весны
Высокопарные мечтанья,
И в поэтический бокал
Воды я много подмешал.
Иные нужны мне картины:
Люблю песчаный косогор,
Перед избушкой две рябины,
Калитку, сломанный забор…
В этих словах чувствуется неприкрытая тяга поэта к родной земле (заметим, не к столицам, а к русской деревне и усадьбе). Между тем мечты о новых путешествиях, в том числе дальних, вовсе не оставили поэта. Больше того, за полгода до смерти, в 1836 году, в стихотворении «Из Пиндемонти» поэт вообще поставил путешествия и познание культурных творений, наряду с независимостью и свободой поэта, выше каких-либо других ценностей бытия:
По прихоти своей скитаться здесь и там,
Дивясь божественным природы красотам,
И пред созданьями искусств и вдохновенья
Трепеща радостно в восторгах умиленья,
Вот счастье! вот права…
Да, свое счастье, хоть и краткое и такое неустойчивое, Пушкин, как и многие другие русские поэты, нашел в путешествиях! И нам остается снова и снова обращаться к его бессмертным произведениям.
Михаил Юрьевич Лермонтов
(1814—1841)

Как удивительна судьба великих русских поэтов, которые раз за разом, начиная с Г.Р. Державина, передавали в той или иной форме свою поэтическую эстафету идущим следом гениям и талантам. Именно стихотворение «Смерть Поэта», написанное через несколько часов после известия о кончине А.С. Пушкина, не только прославило молодого, 22х летнего, поэта Михаила Лермонтова, но и круто изменило его судьбу. Течению жизни поэта теперь суждено было повернуться на Восток, ибо Николай I приказал перевести его в Нижегородский драгунский полк, стоявший на Кавказе. Откуда было знать императору, что такая опала, словно по Крылову, пришлась как нельзя кстати: «И Щуку бросили — в реку!» Ведь Лермонтов бредил Кавказом с самых юных лет, посетив этот дивный край в 1820 и 1825 годах. В 1830 году он признавался:
Хотя я судьбой на заре моих дней,
О южные горы, отторгнут от вас,
Чтоб вечно их помнить, там надо быть раз:
Как сладкую песню отчизны моей,
Люблю я Кавказ.
Я счастлив был с вами, ущелия гор,
Пять лет пронеслось: всё тоскую по вас.
Там видел я пару божественных глаз;
И сердце лепечет, воспомня тот взор:
Люблю я Кавказ!
В
Тебе, Кавказ, — суровый царь земли —
Я снова посвящаю стих небрежный:
Как сына ты его благослови
И осени вершиной белоснежной!
От ранних лет кипит в моей крови
Твой жар и бурь твоих порыв мятежный;
На севере в стране тебе чужой
Я сердцем твой, — всегда и всюду твой!..
Лермонтов относил начало своей поэтической деятельности к 1828 году, и показательно, что первыми поэмами, написанными им в этом году, стали поэмы «Черкесы» и «Кавказский пленник». Поэт просто рвался на Кавказ, видя себя в постоянных схватках и сражениях и тем самым предвосхищая свою судьбу:
Не могу на родине томиться,
Прочь отсель, туда, в кровавый бой.
Там, быть может, перестанет биться
Это сердце, полное тобой.
Нет, я не прошу твоей любови,
Нет, не знай губительных страстей;
Видеть смерть мне надо, надо крови,
Чтоб залить огонь в груди моей.
Именно в тумане странствий видел поэт смутные очертания далёкого счастья, признаваясь, что когда он путешествует, общаясь с природой,
Когда студеный ключ играет по оврагу
И, погружая мысль в какой-то смутный сон,
Лепечет мне таинственную сагу
Про мирный край, откуда мчится он, —
Тогда смиряется души моей тревога,
Тогда расходятся морщины на челе,
И счастье я могу постигнуть на земле,
И в небесах я вижу Бога!..
Поэт даже услышал однажды пророческий голос с небес:
Глупец! где посох твой дорожный?
Возьми его, пускайся в даль;
Пойдешь ли ты через пустыню
Иль город пышный и большой,
Не обожай ничью святыню,
Нигде приют себе не строй.
Нет никакого сомнения, что немалую роль в стремлении Лермонтова на Восток сыграло его увлечение творчеством и жизненными странствиями Александра Грибоедова — кумира поэта с тех пор, когда он впервые прочитал «Горе от ума» в одном из ходивших по рукам списках. И совсем не случайно в 1835 году, почти одновременно с написанием Пушкиным его «Путешествия в Арзрум», только что одевший гусарский мундир Лермонтов, обстоятельно изучивший свет Петербурга, приступил к написанию драмы «Маскарад», пожалуй, наиболее близкой к комедии «Горе от ума» во всей русской литературе. И дело здесь не только в блистательном описании поэтом светского общества, в изображении главного героя, противостоящего свету, в одних и тех же прототипах действующих лиц драмы. Главное заключалось в совпадении особенностей стиха, стиля и даже духа этих произведений, а также в повторении «Маскарадом» той же «непечатной» (при жизни автора) судьбы, что и у комедии Грибоедова.
Вот что писал о «Маскараде» Лермонтова поэт и камергер А.Н.Муравьев: «Пришло ему на мысль написать комедию вроде „Горе от ума“, резкую критику на современные нравы, хотя и далеко не в уровень с бессмертным творением Грибоедова. Лермонтову хотелось видеть ее на сцене, но строгая цензура Третьего отделения не могла ее пропустить».
По сути, уже в «Маскараде» Лермонтов выступил серьезным литературным наследником Грибоедова. В образе созданного им Арбенина в литературу вновь вернулся Чацкий, вернулся «злым умником», конфликтующим со всем светом. На страницах драмы заиграла также яркими красками афористичность поэтического слога, хотя и не такая безграничная, как у старшего товарища Лермонтова по писательскому кругу. Процитируем лишь несколько фраз из драмы Лермонтова и еще раз убедимся, что они могли с легкостью попасть и в «Горе от ума»: «Жизнь банк, рок мечет, я играю // И правила игры я к людям применяю...»; «Не нужно ль денег, князь... я тотчас помогу, // Проценты вздорные... а ждать сто лет могу», «Он из полка был выгнан за дуэль // Или за то, что не был на дуэли»; «Диана в обществе... Венера в маскараде». Конечно, как лирический поэт Лермонтов был намного сильнее Грибоедова, который в свою очередь был непревзойденным драматургом, но их сближает как близость творческих порывов, так и схожесть «страннической судьбы» того и другого, первооткрывателя и его «наследника».
Прощаясь в конце февраля 1837 года со своим другом С.А. Раевским перед ссылкой на Кавказ, поэт писал: «Прощай, мой друг. Я буду тебе писать про страну чудес — Восток. Меня утешают слова Наполеона: Le grands noms ce font a L`Orient (Великие имена делаются на Востоке)». Поэт уже видит себя в нижегородской драгунской форме — папаха, бурка, военный сюртук с газырями на груди, сабля на ремне через плечо, в горах и в Тифлисе, где он посетит могилу Грибоедова, встретится с его вдовой Ниной Чавчавадзе, а потом обязательно пройдет тем же путем, который Пушкин описал в своем «Путешествии в Арзрум».
Лермонтов выехал на Кавказ из Москвы 10 апреля 1837 года и уже скоро писал из Пятигорска, где он лечился на водах, М.А.Лопухиной: «...Каждое утро из окна я смотрю на цепь снежных гор и Эльбрус; вот и теперь... я то и дело останавливаюсь, чтобы взглянуть на этих великанов, так они прекрасны и величественны... Ежедневно брожу по горам, и одно это укрепило мне ноги...» Во Владикавказе поэт увидел белую шапку Казбека — этого стража Востока, на которого такими же восхищёнными глазами смотрели ещё совсем недавно Грибоедов, Пушкин, Бестужев-Марлинский. Но их уже не было на белом свете...
Поэту повезло: так и не приступив фактически к военной службе, он узнал, что Николай I, весьма довольный своим смотром кавказских войск, отдал приказ о различных награждениях, в том числе, о переводе Лермонтова в лейб-гвардии Гродненский гусарский полк, стоявший под Новгородом. Можно было и не ехать в Тифлис, но такое «прощение» поэт воспринял почти как катастрофу. Быть совсем рядом и не увидеть столицу Грузии, Военно-Грузинскую дорогу, Терек, Арагву... Поэт решил, что пока приказ о его отбытии под Новгород ещё не поступил, он сделается простым путешественником и посмотрит всё-таки овеянные легендами дивные места. И ему это удалось, да ещё с огромным сюрпризом: во Владикавказе он встретил лишь недавно прибывшего из Сибири, разжалованного в солдаты декабриста А.И.Одоевского
Где он? Кого о нём спросить?
Где дух? Где прах?.. В краю далёком!
О, дайте горьких слёз потоком
Его могилу оросить...
И первым делом, приехав в Тифлис, Лермонтов и Одоевский отравились в монастырь Святого Давида на склоне горы Мтацминда, где располагался облицованный мрамором грот с могилой Грибоедова. На памятнике из чёрного мрамора с бронзовым крестом, коленопреклонённой фигурой плакальщицы и барельефом поэта была выбита золотая надпись «Ум и дела твои бессмертны в памяти русской, но для чего пережила тебя любовь моя. Незабвенному его Нина...» Друзья преклонили свои колени, и Лермонтов снова задумался о том, какую завидную участь пережил Грибоедов, погибший геройски, с саблей в руке, сражаясь с яростной толпой и выполняя свой долг. А теперь он лежит здесь в горах, над восточным городам, где живёт преданная и любящая его вдова — дочь Востока. Ей ещё только двадцать пять лет, хотя Грибоедов погиб уже восемь лет назад. И скоро её можно будет увидеть.
Друзья в тот же день посетили дом Чавчавадзе, где были приняты по-родственному и где были потрясены красотой и одновременно неизгладимой печалью Нины. Потом они бывали в гостях у Чавчавадзе ежедневно, Лермонтов чуть не влюбился в сестру Нины Екатерину, постоянно делал зарисовки в разных местах Тифлиса, ещё и ещё раз размышляя над судьбой Грибоедова.
Именно тогда у поэта родился не осуществлённый замысел написать роман о жизни Грибоедова, он расспрашивал о нём всех, кто его знал, и начал мечтать о том, как, выйдя в отставку, обязательно посетит Персию, увидит Тегеран, выучит персидский и арабский языки, а может быть, и сможет даже побывать в Мекке. И вот поэт направляется в Шушу, Шемаху, Кубу, Нуху, объезжает чуть не весь Азербайджан. Уже совсем рядом Эривань, Персия... Но вот приходит, наконец, приказ об исключении его из Нижегородского драгунского полка, и поэт собирается обратно в Россию, написав своему другу С.А. Раевскому: «С тех пор, как выехал из России, поверишь ли, я находился до сих пор в непрерывном странствовании, то на перекладной, то верхом; изъездил Линию всю вдоль, от Кизляра до Тамани, переехал горы, был в Шуше, в Кубе, в Шемахе, в Кахетии, одетый по-черкесски, с ружьём за плечами; ночевал в чистом поле, засыпал под крик шакалов... одним словом, я вояжировал. ...Для меня горный воздух — бальзам; хандра к чёрту, сердце бьётся, грудь высоко дышит — ничего не надо в эту минуту... Начал учиться по-татарски... Я уже составлял планы ехать в Мекку, в Персию и проч., теперь остаётся только проситься в экспедицию в Хиву с Перовским. Ты видишь из этого, что я сделался ужасным бродягой, а право, я расположен к этому роду жизни». Поэт мечтал насладиться красотами Востока, и персидские края манили его особенно сильно, хотя он, конечно, понимал неосуществимость такого путешествия. Описывая в своих творениях, прежде всего, то, что ему удавалось увидеть и прочувствовать своим поэтическим сердцем, поэт тем не менее упомянул однажды впрямую свою тягу к Персии в стихотворении «Спор», написанном всего лишь за три месяца до смерти. Перечисляя прелести Востока словами «спорящего» с Шат-горой Казбеком, он написал:
И склонясь в дыму кальяна
На цветной диван,
У жемчужного фонтана
Дремлет Тегеран.
А далее Лермонтов перечислил другие заветные восточные страны, которые ему грезились в поэтических видениях. И сколько удивительного очарования звучало в словах поэта-странника, которому так и не открылись просторы мира:
Вот у ног Ерусалима,
Богом сожжена,
Безглагольна, недвижима
Мертвая страна;
Дальше, вечно чуждый тени,
Моет жёлтый Нил
Раскалённые ступени
Царственных могил;
Бедуин забыл наезды
Для цветных шатров,
И поёт, считая звезды,
Про дела отцов.
В 1837 г. в незаконченном «Отрывке», вновь обращаясь к Казбеку, поэт не только восторженно воспел «престол вечного Аллы», выразив ещё раз своё уважение к исламу, но и уподобил себя, как до него это делали и Грибоедов, и Пушкин, восточному путнику, который молит небеса, чтобы на его «пыльном пути» выпал «прохладный день», и чтобы буря не застала его с «измученным конём»:
Спеша на север из далёка,
Из теплых и чужих сторон,
Тебе, Казбек, о страж востока,
Принес я, странник, свой поклон.
Чалмою белою от века
Твой лоб наморщенный увит,
И гордый ропот человека
Твой гордый мир не возмутит.
Но сердца тихого моленье
Да отнесут твои скалы
В надзвёздный край, в твое владенье
К престолу вечному Аллы.
Молю, да снидет день прохладный
На знойный дол и пыльный путь,
Чтоб мне в пустыне безотрадной
На камне в полдень отдохнуть.
Молю, чтоб буря не застала,
Гремя в наряде боевом,
В ущелье мрачного Дарьяла
Меня с измученным конём...
Образ странника то и дело вдохновлял поэта. Даже в хрестоматийно-известном «Кинжале»
Люблю тебя, булатный мой кинжал,
Товарищ светлый и холодный.
Задумчивый грузин на месть тебя ковал,
На грозный бой точил черкес свободный...
И черные глаза, остановясь на мне,
Исполнены таинственной печали,
Как сталь твоя при трепетном огне,
То вдруг тускнели, то сверкали.
Ты дан мне в спутники, любви залог немой,
И страннику в тебе пример не бесполезный;
Да, я не изменюсь и буду твёрд душой,
Как ты, как ты, мой друг железный.
Как же благодатно оказалось воздействие Кавказа на творчество поэта, несмотря на печальные и трагические ноты, которые то и дело пробивались в его произведениях. Напомним, что как Пушкин прославился поэмой из кавказской жизни, так и Лермонтов, по словам С. Шевырёва, «начинает также Кавказом... Нам понятно, почему дарование поэта раскрылось так быстро и свежо при виде гор Кавказа. Картины величавой природы сильно действуют на восприимчивую душу, рождённую для поэзии, и она распускается скоро, как роза при ударе лучей утреннего солнца». Послушаем, как романтично воспевал поэт очарование Кавказа в своих записках: «Синие горы Кавказа, приветствую вас! вы взлелеяли детство мое; вы носили меня на своих одичалых хребтах, облаками меня одевали, вы к небу меня приучили, и я с той поры все мечтаю об вас да о небе. Престолы природы, с которых как дым улетают громовые тучи, кто раз лишь на ваших вершинах творцу помолился, тот жизнь презирает, хотя в то мгновенье гордился он ею!.. Часто во время зари я глядел на снега и далекие льдины утесов; они так сияли в лучах восходящего солнца, и в розовый блеск одеваясь, они, между тем как внизу все темно, возвещали прохожему утро... Как я любил твои бури, Кавказ! те пустынные громкие бури, которым пещеры как стражи ночей отвечают!..»
Вслед за «Кавказским пленником» Пушкина и повестями «Аммалат-Бек» и «Мулла-Нур» А.А. Бестужева-Марлинского поэт творит свои кавказские произведения: кроме во многом продолжающего пушкинский шедевр «Кавказского пленника» и «Черкес» (1828), это — поэмы «Азраил», «Ангел смерти» (1831), «Измаил-Бей» (1832), «Аул Бастунджи», «Хаджи Абрек»
Быть может, небеса востока
Меня с ученьем их пророка
Невольно сблизили. Притом
И жизнь всечасно кочевая,
Труды, заботы ночь и днем,
Всё, размышлению мешая,
Приводит в первобытный вид
Больную душу...
В программном стихотворении «Поэт» мысли о пророческом даре поэта приняли у Лермонтова явный «восточный» колорит:
Отделкой золотой блистает мой кинжал;
Клинок надёжный, без порока;
Булат его хранит таинственный закал, —
Наследье бренного востока...
Поэт хорошо знал английский и мечтал перевести на русский именно восточную поэму «Гяур» Байрона, но его отговорил от этого В.А. Жуковский, который уверил поэта, что его дело творить новые произведения, а не заниматься переводами: «Оставьте это мне. Таков уж я уродился стихотворец, что мне надо разжечь свою трубку от чьего-то уголька...» Лермонтов часто сравнивал себя с Байроном, старался быть на него похожим, в том числе в его любви к Востоку.
Я молод; но кипят на сердце звуки,
И Байрона достигнуть я б хотел:
У нас одна душа, одни и те же муки; —
О если б одинаков был удел!..
Как он, ищу забвенья и свободы,
Как он, в ребячестве пылал уж я душой,
Любил закат в горах, пенящиеся воды,
И бурь земных и бурь небесных вой. —
Как он, ищу спокойствия напрасно,
Гоним повсюду мыслию одной.
Гляжу назад — прошедшее ужасно;
Гляжу вперед — там нет души родной!
Лермонтов видел себя таким же странником, каким был Байрон, но только с «русским характером» и с ещё более трагической судьбой:
Нет, я не Байрон, я другой,
Еще неведомый избранник,
Как он гонимый миром странник,
Но только с русскою душой.
Я раньше начал, кончу ране,
Мой ум немного совершит;
В душе моей как в океане
Надежд разбитых груз лежит.
Самое знаменательное, что истинным шедевром «страннической литературы» является главное произведение Лермонтова — «Герой нашего времени». Фактически, это записки странника Печорина, «странника по казенной надобности». Таким же странником был и сам Лермонтов, таким же «противувольным» путешественником был Грибоедов. И талантов у них хватало не только на поэзию и скитания: если Грибоедов слыл прекрасным пианистом-импровизатором и композитором, оставившим после себя несколько вальсов, то Лермонтов был прекрасным художником и рисовальщиком, умевшим несколькими штрихами отобразить сцены повседневной жизни.
В августе 1839 года Лермонтов узнал о тяжелой утрате: от лихорадки во время экспедиции против горцев умер А.И. Одоевский. Кавказ забирал и забирал, как жестокую дань, всё новые и новые жизни поэтов, как он сделал это не так давно, в 1837 году, с А.А.Бестужевым-Марлинским, декабристом, переведённым в 1829 году с каторги на Кавказ рядовым и погибшим уже в офицерском звании при занятии мыса Адлер. Лермонтов тут же откликнулся на гибель друга стихотворением «Памяти А.И.Одоевского»:
Я знал его: мы странствовали с ним
В горах востока, и тоску изгнанья
Делили дружно; но к полям родным
Вернулся я, и время испытанья
Промчалося законной чередой...
Поэт писал об Одоевском, но как будто бы имел в виду также и Грибоедова:
...Он погиб далеко от друзей...
Мир сердцу твоему, мой милый Саша!
Покрытое землей чужих полей,
Пусть тихо спит оно, как дружба наша,
В немом кладбище памяти моей.
А ведь самому Лермонтову оставалось жить менее двух лет, и ему тоже Кавказ уже уготовил коварные сети... Страннический путь по воле обстоятельств вел Лермонтова, как и Грибоедова, к заключительному трагическому аккорду. 3 мая 1840 года после дуэли с сыном французского посла Эрнестом де Барантом поручик Лермонтов выехал в новую ссылку на Кавказ, в Тенгинский пехотный полк. Сначала за участие в этой дуэли, хотя поэт стрелял в воздух, его, по предложению А.Х.Бенкендорфа, хотели, лишив чинов и дворянства, «записать в рядовые»: сочувствие верхов, конечно же, было на стороне заносчивого иностранца (Лермонтов, находясь после дуэли на гаупвахте, сказал дежурному офицеру: «Я ненавижу этих искателей приключений... — эти Дантесы и де Баранты заносчивые сукины дети»). Но по решению императора, поэт был послан в одну из самых «горячих точек» Кавказа с сохранением чина, хотя гвардейские офицеры при переводе в армейские полки получали обычно повышение на два чина. Накануне отъезда свои настроения «изгнанника» и «странника поневоле» поэт выразил в следующих строках:
Тучки небесные, вечные странники!
Степью лазурною, цепью жемчужною
Мчитесь вы, будто как я же изгнанники,
С милого севера в сторону южную.
В эти дни А.С. Хомяков сожалел о таком повороте в судьбе поэта: «Боюсь не убили бы. Ведь пуля дура, а он с истинным талантом и как поэт, и как прозатор». Но срок поэта ещё не пришёл, наоборот, его ждал жизненный триумф и подвиг: как штабной офицер при командующем генерал-адъютанте П.Х. Грабе он выступил «в Чечню брать пророка Шамиля», который к лету 1840 г. сосредоточил вокруг себя внушительные силы, взяв несколько русских крепостей. В составе отряда генерала А.В. Галафеева поэт с героическим порывом участвовал в целом ряде стычек с горцами, а 11 июля 1840 года принял самое деятельное участие в большом сражении у речки Валерик, в ходе которого погибло более 70 русских солдат и офицеров.
Поэт командовал тогда «летучей сотней» отважных охотников, отрядом «особого назначения», находясь на острие атаки. Как докладывалось затем при представлении поэта к награде, поручик Лермонтов «несмотря ни на какие опасности, исполнил возложенное на него поручение с отменным мужеством и хладнокровием и с первыми рядами храбрейших солдат ворвался в неприятельские завалы». И еще раз докладывалось позже: «...Всюду поручик Лермонтов везде первым подвергался выстрелам хищников и во всех делах оказывал самоотвержение и распорядительность выше всякой похвалы». Потом бои продолжались, и Лермонтовский отряд, наводивший страх на чеченцев, был назван ими «черной сотней». Поэт при этом, как вспоминали очевидцы, «умел привязать к себе друзей, совершенно входя в их образ жизни. Он спал на голой земле, ел с ними из одного котла и разделял все трудности похода». Лермонтов перестал бриться и уже после возвращения в станицу Грозная из-за обострившегося ревматизма был отправлен на лечение в Пятигорск, откуда вскоре направился в новые опасные походы.
«Я вошёл во вкус войны и уверен, что для человека, который привык к сильным ощущениям этого банка, мало найдётся удовольствий, которые не показались бы приторными, — сообщал он в письме А. Лопухину и добавлял. — Не знаю, что будет дальше, а пока судьба меня не очень обижала...» Кавказское командование представляло Лермонтова и к ордену Станислава 2й степени, и к золотой сабле с надписью «За храбрость». «Во всю экспедицию в Малой Чечне поручик Лермонтов командовал охотниками, набранными из всей кавалерии, и командовал отлично во всех отношениях, всегда первый на коне и последний на отдыхе», — сообщалось тогда в Петербург, но оттуда приходили лишь распоряжения отказать в наградах. Получалось, что и Лермонтову суждено было пережить жестокое и обидное непризнание его геройских заслуг, как это произошло до этого с Грибоедовым после смерти.
Лишь в начале 1841 года поэт в качестве поощрения за своё геройство, прежде всего, хлопотами В.А.Жуковского, получил по приказу Николая I отпуск, но совсем ненадолго. Уже 9 мая того же года он прибыл в Ставрополь. И как знаменательно, что перед самым отъездом из Петербурга, 12 апреля 1841 года, у поэта состоялся долгий сердечный разговор с Натальей Николаевной Пушкиной. «Прощание их было самое задушевное», — вспоминал П.А. Плетнёв.
А сам приказ Лермонтову отправляться снова на Кавказ был сделан в вопиюще жестокой и безобразной форме, доказывающей насколько не ко двору был поэт для «власть предержащих». Как вспоминал А.А.Краевский, Лермонтов ворвался к нему однажды домой: «Понимаешь ли ты! Мне велят выехать в 48 часов из Петербурга. — Оказалось, что его разбудили рано утром: Клейнмихель приказал покинуть столицу в дважды двадцать четыре часа и ехать в полк в Шуру. Дело вышло по настоянию графа Бенкендорфа, которому не нравились хлопоты о прощении Лермонтова и выпуске его в отставку».
Перед отъездом у Лермонтова усилились мрачные предчувствия, которые находили своё подтверждение во многих его стихах:
Мое свершится разрушенье
В чужой, неведомой стране...
Или:
В полдневный жар в долине Дагестана
С свинцом в груди лежал недвижим я...
Еще в отрочестве поэт как бы наяву увидел ждавшие его в 1841 году испытания:
Настанет день — и миром осужденный,
Чужой в родном краю,
На месте казни — гордый, хоть презренный —
Я кончу жизнь мою.
В «Герое нашего времени» есть такие горькие строки, выражавшие настроения автора: «...Мы не способны более к великим жертвам ни для блага человечества, ни даже для собственного нашего счастья, потому что знаем его невозможность, и равнодушно переходим от сомнения к сомнению, как наши предки бросались от одного заблуждения к другому». Отчаяние и безнадежность постоянно звучали в творениях поэта, а в 1840 году в своём итоговом стихотворении «Завещание» он как будто наяву увидел близкую развязку своих жизненных скитаний:
А если спросит кто-нибудь...
Ну, кто бы ни спросил,
Скажи им, что навылет в грудь
Я пулей ранен был;
Что умер честно за царя,
Что плохи наши лекаря,
И что родному краю
Поклон я посылаю.
Писатель Ю.Ф. Самарин, провожая поэта из Москвы, запомнил слова Лермонтова: «Он говорил мне о своей будущности, о своих литературных проектах, и среди всего этого он проронил о своей скорой кончине несколько слов, которые я принял за обычную шутку с его стороны. Я был последний, который пожал ему руку в Москве». Прибыв на Кавказ, поэт писал С.Н. Карамзиной: «Я только что приехал в Ставрополь и отправляюсь в тот же день в экспедицию... Пожелайте мне: счастья и лёгкого ранения, это самое лучшее, что только можно мне пожелать... Признаюсь вам, что я порядком устал от всех этих путешествий, которым, кажется, суждено вечно длиться». Заболев, поэт остался на лечении в Пятигорске, что и привело в итоге к роковому стечению обстоятельств. Как сложилась бы его судьба, окажись он вновь среди пуль и в центре жестоких схваток? А возможность такая была тогда, в период нового обострения военных действий, весьма вероятной. Поэт находился под постоянным присмотром самого императора. Узнав, что Лермонтов находится на лечении, а не в своём полку, Николай I 30 июня написал такую резолюцию: «Зачем не при своём полку? Велеть непременно быть налицо во фронте, и отнюдь не сметь под каким бы то ни было предлогом удалять от фронтовой службы при своём полку». Так получилось, что это распоряжение было получено на Кавказе уже после гибели Лермонтова.
В эти тревожные дни начала лета 1841 года Лермонтов написал свой непревзойденный шедевр, одно из самых последних стихотворений, «Выхожу один я на дорогу...», опередив и предвосхитив на 80 лет те же самые ноты, которые зазвучали затем в творениях «крестьянского поэта» Есенина. Сквозь печаль и тревогу Лермонтов обращал свои взоры к «космическому бытию»:
Выхожу один я на дорогу;
Сквозь туман кремнистый путь блестит;
Ночь тиха. Пустыня внемлет Богу,
И звезда с звездою говорит.
В небесах торжественно и чудно!
Спит земля в сиянье голубом...
Что же мне так больно и так трудно?
Жду ль чего? жалею ли о чем?
Уж не жду от жизни ничего я,
И не жаль мне прошлого ничуть;
Я ищу свободы и покоя!
Я б хотел забыться и заснуть!
Именно «заснуть»... Ведь вскоре поэта ждало отнюдь не лёгкое ранение на поле брани, как он мечтал, а смертельная пуля на поле чести, во время дуэли 15 июля 1841 года со своим товарищем по школе юнкеров Н.С. Мартыновым у подножия Машука. Шутка поэта на вечере в пятигорском семействе Верзилиных задела Мартынова, человека весьма самолюбивого и не очень умного, Лермонтов принял его вызов, не придав значения размолвке и твёрдо решив не стрелять в товарища. Однако тот не оказался столь сентиментальным. Кавказ с помощью дуэлянта всё-таки забрал к себе ещё одну поэтическую душу, как дань за то очарование, которое он дарил Лермонтову. И «земной странник» продолжил свой путь уже «в надзвездные края», к «бегущим кометам», в тот запредельный мир, который он описал, пожалуй, первым в русской поэзии и к которому стремился незадолго до трагической дуэли:
Но я без страха жду довременный конец,
Давно пора мне мир увидеть новый...
Сбылось горькое предвидение и самого поэта, и многих его друзей. Он ушел в «небесные дали», туда, где давно искал себе родину. Поэт и критик С.А.Андреевский откровенно сказал об этой страсти Лермонтова: «Нет другого поэта, который бы так явно считал небо своей родиной и землю — своим изгнанием... Никто так прямо не говорил с небесным сводом, как Лермонтов, никто с таким величием не созерцал эту глубокую бездну». А Велимир Хлебников вообще назвал поэта «сыном земли с глазами неба».
Всего лишь за
Горька судьба поэтов всех племен;
Тяжеле всех судьба казнит Россию;
Для славы и Рылеев был рожден;
Но юноша в свободу был влюблен...
Стянула пе́тля дерзостную выю.
Не он один; другие вслед ему,
Прекрасной обольщенные мечтою, —
Пожалися годиной роковою...
Бог дал огонь их сердцу, свет уму,
Да! чувства в них восторженны и пылки:
Что ж? их бросают в черную тюрьму,
Морят морозом безнадежной ссылки...
Или болезнь наводит ночь и мглу
На очи прозорливцев вдохновенных;
Или рука любезников презренных
Шлет пулю их священному челу;
Или же бунт поднимет чернь глухую,
И чернь того на части разорвет,
Чей блещущий перунами полет
Сияньем о́блил бы страну родную.
А.И. Герцен, вынужденный прожить 23 года в эмиграции, думал о том же самом: «Ужасный, скорбный удел ожидает в России всякого, кто поднимет голову выше уровня, начертанного императорским скипетром, — будь то поэт, гражданин, мыслитель. Всех их уводит в могилу неодолимый рок...» Во второй раз этот же самый «неодолимый рок» вырвал из жизни всего лишь за 20 лет новых «страдальцев русской поэзии», ушедших из жизни или насильственно, или под «топором недугов и катаклизмов», но в любом случае раньше того времени, которое могло бы им выпасть на жизненном пути в другую, более спокойную эпоху: А.Блока (1921), Н.С.Гумилева (1921), В.Хлебникова (1922), А. Ширяевца (1924), В.Я. Брюсова (1924), С.А.Есенина (1925), А. Соболя (1926), Ф.Сологуба (1927), В.В.Маяковского (1930), О.Э.Мандельштама (1938), П.В.Орешина (1938), М.И.Цветаеву (1941), Д. Хармса (1942), Мать Марию (1945) ...
В истории русской поэзии можно насчитать более 20 известных, а не второстепенных и каких-либо случайных, поэтов, которым выпало прожить менее 40 лет (или чуть больше этого срока) в силу самых разных причин. Приведем здесь этот печальный мартиролог, расширив немного указанный временной ориентир трагическими фигурами русской поэзии и указав в скобках после имени каждого поэта, сколько полных лет ему выпало прожить на этом свете, выстроив список, начиная с самых «коротких поэтических судеб»:
- Д.В. Веневитинов (21)
- И.И. Коневской (23)
- М.Ю. Лермонтов (26)
- С.А. Есенин (30)
- К.Ф. Рылеев (30)
- А.И. Дельвиг (32)
- А.И. Полежаев (33)
- А.С. Грибоедов (34)
- Н.С. Гумилев (35)
- Н.М. Рубцов (35)
- В.В. Маяковский (36)
- А.И. Одоевский (36)
- В. Хлебников (36)
- Д. Хармс (36)
- И.С. Никитин (37)
- А. Ширяевец (37)
- А.С. Пушкин (37)
- А. Соболь (38)
- А.А. Бестужев-Марлинский (39)
- А.В. Дружинин (39)
- А.А. Блок (40)
- В.С. Высоцкий (42)
- Н.М. Языков (43)
- О.Э. Мандельштам (47)
- М.И. Цветаева (48)
- В.К. Кюхельбекер (49)
- В.Я. Брюсов (50)
- П.В. Орешин (50)
- Мать Мария (Е.Ю. Кузьмина-Караваева) (53)
Как видим, Лермонтов стоит в самом начале этого списка, а Пушкин — 17-й по счету (не будем забывать, что в середине XIX века средняя продолжительность жизни составляла около 35 лет, учитывая особенно высокую детскую смертность того времени). Но вот что интересно: с оружием в руках, при исполнении своих обязанностей погибли только двое из поэтов длинного списка — Грибоедов (1829) и Бестужев-Марлинский (1837), хотя в списке немало тех, кто воевал (например, Лермонтов и Гумилев, а Одоевский умер от малярии после его участия в боевых стычках с горцами на Кавказе в 1839 г.). На дуэлях погибли тоже двое — Пушкин (1837) и Лермонтов (1841). Многие пострадали от «государственного гнета» разных эпох: казнен Рылеев (1826), умер от чахотки в сибирском изгнании, в Тобольске, Кюхельбекер (1846), расстреляны Гумилев (1921), Клюев (1937) и Орешин (1938), умер в заключении в лагере Мандельштам (1938), а в тюремной больнице «Крестов» — Хармс (1942), больному и умирающему Блоку не была оказана государством необходимая помощь (1921). Самоубийством закончили жизнь Соболь (1926) и Цветаева (1941), скорее убиты, чем пошли на самоубийство — Есенин (1925) и Маяковский (1930), утонул Коневской (1901), задушен невестой Рубцов (1971), неизвестно место захоронений трех поэтов — Одоевского, Бестужева-Марлинского и Мандельштама. Мать Мария была казнена фашистами в газовой камере Равенсбрюка (1945). Все остальные поэты умерли от всяческих недугов: лихорадки, чахотки, тифа, воспаления легких, мененгита, гангрены, да мало ли каких напастей по части здоровья можно было навлечь на себя в те годы.
Однако приведенный список отнюдь не свидетельствует, что почти все поэты в России обречены были жить мало и жить именно страдальчески. Есть, конечно, и исключения. Укажем для примера, сколько лет прожили другие классики русского поэтического слова, хотя и им пришлось испытать на себе многие коллизии и испытания, в том числе длительную эмиграцию: И.А. Крылов (75), К.Д. Бальмонт (75), Д.С. Мережковский (76), В.В. Набоков (78), И.А. Бунин (83), П.А. Вяземский (86), К.И. Чуковский (87), Ф.Н. Глинка (93) …
Как прекрасно сказал о «невозвратимой утрате» русской литературы в лице Лермонтова В.Г. Белинский: «Этой жизни суждено было проблеснуть блестящим метеором, оставить после себя длинную струю света и благоухания и — исчезнуть во всей красе своей…» Всего лишь четыре с половиной года суждено было Лермонтову нести эстафетную палочку высокой поэзии, которая была передана ему Пушкиным. И как же схожи судьбы этих двух поэтов, сложивших головы на жертвенный алтарь поэтического русского Слова. Даже в церкви их обоих отпевали по особому разрешению, ведь в те годы закон приравнивал убитого на дуэли к самоубийце и лишал его христианского погребения. Протоиерей П.М. Александровский обратился из Пятигорска с запросом об отпевании к начальству и получил разрешение на это от Следственной комиссии, которая сочла, что Лермонтов может быть погребён «так точно, как в подобном случае камер-юнкер Александр Сергеев Пушкин», который «отпет был в церкви». Круг эстафеты вроде бы замкнулся, но она продолжалась на путях русской поэзии уже в другое время и с другими поэтами ещё очень и очень долго.
Лермонтов так и не исполнил свое намерение написать роман о Грибоедове, его будущие планы, в пересказе разных лиц, были весьма разнообразными, имея связь с «кровавым усмирением Кавказа, персидской войной и катастрофой, среди которой погиб Грибоедов в Тегеране». Лермонтов — такой же «странник русского слова», как и министр-поэт, — бесстрашно шел путями своей судьбы до самого предела. По словам Белинского, в последние годы жизни «уже затевал он в уме, утомленном суетою жизни, создания зрелые; он сам говорил нам, что замыслил написать трилогию, три романа, из трех эпох русского общества (века Екатерины II, Александра I и настоящего времени), имеющих между собой связь и некоторое единство». И не приходиться сомневаться, что, если бы этот замысел был осуществлен, одним из героев трилогии, связывавшем разные эпохи, стал бы именно Грибоедов. Для этого утверждения есть очень весомые основания, которые подтверждаются явными намеками, зашифрованными поэтом в главном своем детище.
Почти в завершающих строках «Героя нашего времени» Печорин таким образом выразил основное отличие странника, отделяющего его от обычных людей (со скрытой отсылкой к образу Чацкого): «Я люблю сомневаться во всем: это расположение ума не мешает решительности характера — напротив; что до меня касается, то я всегда смелее иду вперед, когда не знаю, что меня ожидает». Вот так же смело шли вперед и Грибоедов, и Пушкин, и Лермонтов. А чем же кончил свой путь «странник Печорин»? «Журнал Печорина», а иначе его дневники, начинаются следующим весьма знаменательным предуведомлением публикатора этих дневников: «Недавно я узнал, что Печорин, возвращаясь из Персии, умер». Далее публикатор, а, по сути, сам Лермонтов, написал: «Я поместил в этой книге только то, что относилось к пребыванию Печорина на Кавказе; в моих руках осталась еще толстая тетрадь, где он рассказывает всю жизнь свою. Когда-нибудь и она явится на суд света; но теперь я не смею взять на себя эту ответственность по многим важным причинам».
Ах, хоть бы одним глазком заглянуть в «толстую тетрадь» Печорина. Что же он делал в Персии, где и в каких городах странствовал по «персидскому миру», что увидел там и пережил, нашел ли он на Востоке свою любовь и вдохновение, не свела ли судьба его, наследника «персидского странника», с самим Грибоедовым, когда и почему, наконец, Печорин умер? Эти вопросы так и останутся тайной лермонтовского гения…
Серебряный век
Серебряный век на ветрах странствий
В начале 1890х годов русская поэзия сделала новый вираж в своем развитии: она, казалось бы, застыла почти на полвека без особых взлетов и достижений и вдруг вступила в новую эпоху прорыва и страстей, которая продлилась чуть больше 30 лет (кстати, почти столько же, сколько и сам Золотой век) и получила название Серебряного века. Как это уже было в преддверии Золотого века, непонятно по каким сверхестественным причинам, на поэтической арене появляются новые таланты, родившиеся на протяжении периода чуть более 25 лет в Москве: Вячеслав Иванов (1866), В.Я. Брюсов (1873), Андрей Белый (1880), В.Ф. Ходасевич (1886), Б.Л. Пастернак (1890), Марина Цветаева (1892); в Петербурге: Ф.К. Соллогуб (1863), Д.С. Мережковский (1865), Мирра Лохвицкая (1869), А.А. Блок (1880), К.И. Чуковский (1882), С.М. Городецкий (1884), Н.С. Гумилев (1886), Игорь Северянин (1887), и в других местах: К.Д. Бальмонт (1867), З.Н Гиппиус (1869), М.А. Кузмин (1873), М.А. Волошин (1877), Саша Черный (1880), Н.А. Клюев (1884), Велимир Хлебников (1885), В.И. Нарбут (1888) и Сергей Есенин (1895), все вместе ставшие столпами Серебряного века. Удивительно, но более 20 имен (и каких имен!) появляются на поэтическом небосводе лишь за четверть века! И треть из них — петербуржцы, что сразу выводит северную столицу на первое место в новой поэтической эпохе. И именно все эти имена представлены в проекте «Поэтические места России».
А завершился Серебряный век примерно в 1921 году, когда уже отбушевала Гражданская война, наступила совершенно новая полоса советской истории и ушли из жизни Блок и Гумилев, эти два энергетических полюса Серебряного века, которые спорили друг с другом, но на которых держалось напряжение этого века. За прошедшие 30 «серебряных» лет России суждено было пережить научно-промышленную революцию и три социальных революции, русско-японскую, Первую мировую и Гражданскую войны, смену разных культурных ориентиров, и поэты, естественно, проживали все эти катаклизмы вместе со своей страной, отражая их в поэтических творениях. Им выпало сформировать и развивать новые литературные направления, отвечавшие требованиям эпохи: символизм, лидерами которого выступали Д.С. Мережковский, В.Я. Брюсов, К.Д. Бальмонт, А.А. Блок, Андрей Белый; акмеизм во главе с Н.С. Гумилевым, С.М. Городецким, А.А. Ахматовой и О.Э. Мандельштамом; а также футуризм, имажинизм и «новокрестьянское» направление в поэзии.
В те годы течение жизни ускорилась неимоверно, что проявилось, в том числе в развитии транспортных средств, сделавших путешествия более простыми и доступными. И эти самые путешествия стали тогда неимоверно модными в среде интеллигенции. Причем в первую очередь она устремилась в вожделенную Европу, куда потянулись тогда и русские поэты. Можно долго перечислять тех из них, кто путешествовал по основным точкам европейского притяжения — Франции, Италии, Германии, Швейцарии и другим странам.
Однако часть поэтов, вслед за И.А.Буниным и К.Д. Бальмонтом, устремилась на Восток (Н.С. Гумилев почти единственный из всех поэтов постоянно рвался в Африку, а более конкретно в Абиссинию). В этом проявилась давняя тяга русских мастеров слова в загадочные восточные края, которая проявилась и у Грибоедова, и у Пушкина, и у Лермонтова. Особенно сильно почти всех русских поэтов влекла к себе именно Персия. Ниже представлены статьи о восьми поэтах, у которых влечение к Персии сочеталось с интересом к другим заграничным путешествиям и к странствиям по российским далям: Вячеславе Иванове, К.Д. Бальмонте, И.А.Бунине, В.Я. Брюсове, С.М. Городецком, Велимире Хлебникове, Н.С. Гумилеве, С.А. Есенине.
Что касается географии поэтических путешествий Серебряного века по России, то они сохранили черты прошлых времен и приобрели новые оттенки. Во-первых, в этот период в поэзии несомненно вырос градус трагизма и ожидания судьбоносных перемен, как будто разлитых в воздухе задолго до 1917 года. Андрей Белый еще в 1908 году в стихотворении «Из окна вагона» так выразил свою дорожную тревогу:
Поезд плачется. В дали родные
Телеграфная тянется сеть.
Пролетают поля росяные.
Пролетаю в поля: умереть.
Пролетаю: так пусто, так голо...
Пролетают — вон там и вон здесь,
Пролетают — за селами села,
Пролетает — за весями весь;
И кабак, и погост, и ребенок,
Засыпающий там у грудей;
Там — убогие стаи избенок,
Там — убогие стаи людей.
Мать-Россия! Тебе мои песни,
О немая, суровая мать!
Здесь и глуше мне дай и безвестней
Непутевую жизнь отрыдать.
Во-вторых, в это время продолжилась традиция русских поэтов воспевать свои родные места, куда они любили возвращаться — и не раз! Вот как, к примеру, о своем родном селе Гумнищи Шуйского уезда Владимирской губернии писал К.Д. Бальмонт:
Мне снятся родные луга,
И звонкая песня косца,
Зеленого сена стога,
Веселье и смех без конца.
Июльского дня красота,
Зарница июльских ночей,
И детского сердца мечта
В сияньи нездешних лучей...
И все, что в родной стороне
Меня озарило на миг,
Теперь пробудило во мне
Печали певучий родник.
А С.А. Есенин не менее восторженно вспоминал о своем родном Константинове на Рязанщине:
Низкий дом с голубыми ставнями,
Не забыть мне тебя никогда, —
Слишком были такими недавними
Отзвучавшие в сумрак года.
До сегодня еще мне снится
Наше поле, луга и лес,
Принакрытые сереньким ситцем
Этих северных бедных небес.
Восхищаться уж я не умею
И пропасть не хотел бы в глуши,
Но, наверно, навеки имею
Нежность грустную русской души.
В третьих, столицы России тогда по-прежнему занимали господствующее положение в поэтическом вдохновении поэтов, которые посвящали им сотни стихов. Правда, теперь первое место в соревновании столиц уверенно занимал Санкт-Петербург, игравший роль «тревожного сердца» Серебряного века. Один из его инициаторов и провозвестников И.Ф. Анненский продолжал пушкинскую линию, когда пытался разгадать загадку «города Медного всадника»:
Жёлтый пар петербургской зимы,
Жёлтый снег, облипающий плиты...
Я не знаю, где вы и где мы,
Только знаю, что крепко мы слиты.
Сочинил ли нас царский указ?
Потопить ли нас шведы забыли?
Вместо сказки в прошедшем у нас
Только камни да страшные были.
Только камни нам дал чародей,
Да Неву буро-жёлтого цвета,
Да пустыни немых площадей,
Где казнили людей до рассвета.
А петербуржец до мозга костей А.А. Блок уловил саму душу города на Неве, когда написал афористические строки:
Ночь, улица, фонарь, аптека,
Бессмысленный и тусклый свет.
Живи еще хоть четверть века —
Все будет так. Исхода нет.
Умрешь — начнешь опять сначала
И повторится все, как встарь:
Ночь, ледяная рябь канала,
Аптека, улица, фонарь.
В четвертых, в конце XIX — начале XX века резко расширилась география мест, которые посещали и воспевали поэты. Приведем лишь несколько примеров.
Вот что писал Ф.К. Соллогуб о Костроме:
Сквозь туман едва заметный
Тихо блещет Кострома,
Словно Китеж, град заветный, —
Храмы, башни, терема.
Кострома — воспоминанья,
Исторические сны,
Легендарные сказанья,
Голос русской старины...
А это стихи В.Ф. Ходасевича о Бельском Устье на Псковщине:
Здесь даль видна в просторной раме:
За речкой луг, за лугом лес.
Здесь ливни черными столпами
Проходят по краям небес.
Здесь радуга высоким сводом
Церковный покрывает крест
И каждый праздник по приходам
Справляют ярмарки невест.
А вот строки Н.А. Клюева о Соловецких островах:
Просинь — море, туча — кит,
А туман — лодейный парус.
За окнищем моросит
Не то сырь, не то стеклярус...
В городище, как во сне,
Люди — тля, а избы — горы.
Примерещилися мне
Беломорские просторы.
Гомон чаек, плеск весла,
Вольный промысел ловецкий:\
На потух заря пошла,
Чуден остров Соловецкий.
Изощренный в своем поэтическом таланте Игорь Северянин такими словами высказывался об Алтае:
О, океана золотая, —
Крещенский солнечный восход!
Скользит, как вздох Эола, тая
По скатогориям Алтая
Победоносный лыжеход.
Снега, снега, — как беломорье...
Восход бестепел. Вдоль полян
Метет предутренник с нагорья...
А неподражаемый М.А. Волошин еще и еще раз возвращался к своему любимому Коктебелю:
Моей мечтой с тех пор напоены
Предгорий героические сны
И Коктебеля каменная грива;
Его полынь хмельна моей тоской,
Мой стих поет в волнах его прилива,
И на скале, замкнувшей зыбь залива,
Судьбой и ветрами изваян профиль мой.
В пятых, как это было и ранее, от познания российских городов и весей поэты Серебряного века поднимались в своих стихах к осмыслению России. Пожалуй, именно в этот период подобных духовно-философских откровений было высказано поэтами особенно много. Ф.К. Соллогуб в стихотворении с показательным названием «Гимн» так воспевал свое Отечество в 1915 году:
Да здравствует Россия,
Великая страна!
Да здравствует Россия!
Да славится она!..
А только в правде Он.
Мы правдой освятили
Свободу и закон.
Да славится Россия,
Великая страна!
Да здравствует Россия!
Да славится она!
А.А. Блок сказал о том же самом более простыми, но и более эмоциональными словами:
О, Русь моя! Жена моя! До боли
Нам ясен долгий путь!
Наш путь — стрелой татарской древней воли
Пронзил нам грудь.
Наш путь — степной, наш путь — в тоске безбрежной —
В твоей тоске, о, Русь!
И даже мглы — ночной и зарубежной —
Я не боюсь.
А в 1914 году накануне суровых испытаний молодой Есенин высказался о своей Родине так, как, пожалуй, никто до него не делал:
Гой ты, Русь, моя родная,
Хаты — в ризах образа...
Не видать конца и края —
Только синь сосёт глаза.
Как захожий богомолец,
Я смотрю твои поля.
А у низеньких околиц
Звонно чахнут тополя.
Пахнет яблоком и мёдом
По церквам твой кроткий Спас.
И гудит за корогодом
На лугах весёлый пляс...
Если крикнет рать святая:
«Кинь ты Русь, живи в раю!»
Я скажу: «Не надо рая,
Дайте родину мою.
После этого последовали семь страшных лет войн, революций и испытаний России на выживание и сохранение. И русские поэты, пережившие со своим народом все эти испытания, не прекращали верить в будущее России, как это в феврале 1918 года делала З.Н. Гиппиус:
Она не погибнет — знайте!
Она не погибнет, Россия.
Они всколосятся, — верьте!
Поля ее золотые.
И мы не погибнем — верьте!
Но что нам наше спасенье:
Россия спасется, — знайте!
И близко ее воскресенье.
Через два года о той же вере в возрождение России писал в своем «Заклинании» М.А. Волошин:
Из крови, пролитой в боях,
Из праха обращенных в прах,
Из мук казненных поколений,
Из душ, крестившихся в крови,
Из ненавидящей любви,
Из преступлений, исступлений —
Возникнет праведная Русь.
С тех пор прошло почти 100 лет, а предчувствия и вера русских поэтов в Россию подтвердились. Она выстояла и продолжает свое путешествие по эпохам и временам, а современные поэты продолжают свое служение ей и русскому слову!
Вячеслав Иванов (1866—1949)

Жаль, что мы так редко вспоминаем сегодня о знаменитым поэте-символисте и философе Вячеславе Ивановиче Иванове, хозяине той самой Башни в Петербурге, которая стала центром литературной жизни Серебряного века. Именно в тот период эстетического и духовного взлета Иванов организовал в Петербурге кружок гафизитов, для которых личность легендарного персидского поэта Хафиза (Гафиза) знаменовала собой мистическую восточную поэзию. В состав кружка входили тогда, кроме его основателя, такие видные деятели культуры, как Л.С. Бакст, Н.А. Бердяев, Л.Д. Зиновьева-Аннибал, М.А. Кузмин, К.А. Сомов и, что неудивительно в контексте нашего исследования, поэт Сергей Городецкий.
В своем дневнике Вячеслав Иванов так определял задачи кружка «гафизитов»: «Гафиз должен сделаться вполне искусством. Каждая вечеря должна заранее обдумываться и протекать по сообща выработанной программе. Свободное общение друзей периодически прерываться исполнением очередных нумеров этой программы, обращающих внимание всех к общине в целом. Этими нумерами будут стихи, песня, музыка, танец, сказки и произнесение изречений, могущих служить и тезисами для прений; а также некоторые коллективные действия, изобретение которых будет составлять также обязанность устроителя вечера...».
Собрания кружка начались в мае 1906 года, в приглашениях его участники называли Петербург Петробагдадом, намекая на Багдад «Сказок 1001й ночи». Они довольно затейливо и искусно воссоздавали в Северной столице атмосферу «нежного и блестящего Востока», персидских и арабских сказаний. Для Вячеслава Иванова имя и творчество Гафиза надолго связало его с поэтическим миром Персии, в том числе и с суфийской духовной традицией, которая приобрела в начале ХХ века популярность в элитарной литературной среде.
Совершенно естественно, что такая страсть не могла не «отлиться строем рифм». К примеру, итоговый и масштабный сборник «Cor Ardens» (ч.1—2, 1911), который поэт начал составлять как раз в 1907 году, просто пронизан «восточными мотивами». Вячеслав Иванов опубликовал в нем несколько «подражаний персидскому», в том числе такую «Балладу»:
Всех нежной Персии даров
Ты сладостней, цветов царица!
Ты — неги, песен и пиров
Наперсница. Ты — чаровница
Любви. Тобой цветет гробница.
Земля и твердь — одна твоя
Благоуханная божница,
А ты... ты — сердце бытия!
Когда священный свой покров
Раскинет звездная черница,
В богоявлении миров
Твоя дымится багряница.
А в стихотворении «Палатка Гафиза» из того же сборника поэт с восторгом писал о своем кумире, называя себя его наследником:
Снова свет в таверне верных после долгих лет, Гафиз!
Вина пряны, зурны сладки, рдяны складки пышных риз,
И умильные украдкой взоры встретятся соседей:
Мы — наследники Гафизом нам завещанных наследий.
Упои нас, кравчий томный! Друг, признание лови!
И триклиний наш укромный станет вечерей любви,
Станет вечерей улыбок, дерзновений и томлений...
Кроме этого поэт включил в свой сборник также «Газэлы о розе» (7 стихов), «Новые газэлы о розе» (8 стихов) и цикл «Антология розы», состоящий из 21 элегического двустишия, подтвердив тем самым свою приверженность к распространенным формам и размерам персидской лирики.
Из суфийских увлечений мастеров Серебряного века родился и такой знаменитый в то время проект, как постановка Сергеем Дягилевым во время «Русских сезонов» в Париже «Шехерезады», которую парижская критика признала «шедевром и лучшей вещью, которую до сих пор удалось поставить Дягилеву». Львиная доля успеха в этом проекте досталась Льву Баксту, художнику и автору либретто. «Передайте Баксту, — писал в одном из писем Марсель Пруст, — что я испытываю волшебное удивление, не зная ничего более прекрасного, чем «Шехерезада».
А идея постановки балета родилась у Бакста как раз под влиянием «суфийских вечеров» на Башне у Вячеслава Иванова. Поэт Михаил Кузмин несколько раз упоминал в своем дневнике за 1907 год про «чтение арабских сказок», и три газели из его книги «Осенние озера» представляют собой вольное переложение этих сказок. Эскизы Бакста к балету «Шехерезада» были приобретены тогда парижским музеем декоративных искусств, а сам спектакль еще долго порождал у парижан ассоциации с ожившими «картинами в золотой раме», и не случайно декорации сравнивали часто с «огромным персидским ковром».
После революции Вячеслав Иванов около трех лет — в
Поездка была очень короткая, и в Персии Вячеславу не удалось много повидать, но он с гордостью привез „туманы“, рис и кишмиш. Он рассказал, что ему там предложили покурить опиума, он согласился, надеясь испытать какие-нибудь экстатические переживания, но был разочарован. Он должен был забраться на верхний этажик так называемого „чайного домика“, где ему предложили курить, но перед домом скопилась целая толпа зевак смотреть на это редкое зрелище. Зеваки помешали всякому экстазу, а сам дурман вызвал у него тошноту...
Вячеслав во время пребывания в Баку заинтересовался персидским языком. Ему захотелось читать Гафиза в подлиннике. Он обратился к преподавателю персидского языка на нашем восточном факультете. Это оказался оригинальный и симпатичный человек, похожий скорее на дервиша, но примитивный как педагог. Он, несмотря на просьбы Вячеслава, категорически отказался говорить о грамматике и конструкции языка... Стало ясно, что по такой системе и такому ученику добраться до Гафиза невозможно. Уроки прекратились».
Вячеслав Иванов преподавал в Баку в университете, и среди его студентов оказался тот самый поэт и филолог Моисей Альтман, который побывал в Персии еще в 1920 году. Преподаватель и ученик тогда сдружились, в том числе и на почве интереса к Персии, и постоянно вели друг с другом литературно-исторические беседы, которые Альтман отразил в своей книге «Разговоры с Вячеславом Ивановым» (СПб., 1995). Эта книга прекрасно показывает тот широкий спектр духовных интересов, который отличал российских поэтов того «сумасшедшего» времени.
Константин Дмитриевич Бальмонт
(1867—1942)

Среди «скитальцев русской поэзии» одно из самых первых и почетных мест, без сомнения, занимает Константин Бальмонт, который взошел на поэтический Олимп с «жаждой безграничного и безбрежного», с открытым воспеванием природных стихий — Океана и Солнца, Огня и Ветра. Поставив в эпиграф сборника «Будем как Солнце» строку древнегреческого философа Анаксагора, поэт превратил ее в гимн своего стихотворного предназначения:
Я в этот мир пришел, чтоб видеть Солнце
И синий кругозор.
Я в этот мир пришел, чтоб видеть Солнце
И выси гор.
Я в этот мир пришел, чтоб видеть Море
И пышный цвет долин.
Я заключил миры в едином взоре,
Я властелин.
«В течение десятилетия Бальмонт нераздельно царил над русской поэзией. Другие поэты или покорно следовали за ним, или, с большими усилиями, отстаивали свою самостоятельность от его подавляющего влияния», — так писал в 1906 году Валерий Брюсов, определив хронологические рамки этого доминирования поэта —
Прожив долгую и насыщенную жизнь, Бальмонт постепенно менялся: он «уже не рвался в бездны», а «нащупывал путь к Богу». Как писал тот же Зайцев, Бальмонт, всегда «язычески поклонявшийся жизни, утехам её и блескам», исповедуясь перед кончиной, произвел на священника особое впечатление силой своего покаяния, считая «себя неисправимым грешником, которого нельзя простить».
Литературное наследие Бальмонта просто огромно, ему принадлежат десятки сборников стихов и прозы. С детства одаренный особыми лингвистическими способностями, он овладевал языками по мере своего интереса к той или иной культуре. По свидетельству современников, он знал более десяти европейских языков, изучал санскрит, японский и китайский языки. Бесконечные путешествия поэта давали ему мощный импульс к творчеству, обеспечивая приток новых жизненных впечатлений, которые отливались в рифмах и статьях. Чаще всего поэт не просто описывал увиденное, он старался вжиться в чужую культуру и историю, отождествляя себя то с ацтекским жрецом, то с японским воином, то с индийским крестьянином. «Со всеми я сливаюсь каждый миг», — признавался поэт. «Я вечно другой», — утверждал он, и это его увлекало, как и переменчивость окружающего мира.
По размаху своих путешествий Бальмонт до сих пор превосходит всех русских поэтов, опережая, без сомнения, даже таких «странников русской поэзии», какими были И.Бунин и Н. Гумилев. Начало его путешествиям положила поездка в 1892 году в Скандинавию, в 1896 году он уезжает во Францию, знакомится со многими странами Западной Европы. В 1897 году читает лекции о русской поэзии в Оксфордском университете. С марта 1902 года живет преимущественно в Париже, совершая поездки в Англию, Бельгию, Германию, Швейцарию и Испанию. В январе 1905 года отправляется в Мексику и Калифорнию. А в январе 1912 года, стартовав из Лондона, он совершает настоящее кругосветное путешествие, длившееся почти год — до 30 декабря 1912 года. Судно взяло курс из Лондона к берегам Южной Африки через Плимут и Канарские острова, далее путь лежал к Австралии, Новой Зеландии, Самоа, Фиджи, Новой Гвинее, Яве, Суматре, Цейлону и Индии, где поэт просто «утонул» в глубинах индийской культуры, мифологии и религии. «Я был совершенно счастлив, — сообщал он М. Цветаевой, — два месяца я был в старой Индии».
Возвратившись из этого путешествия, поэт пришел к очень показательному выводу, который он сформулировал в своем письме Ф.Д. Батюшкову: «Я видел моря и океаны... и снова, сидя у окна в моем парижском домике, среди своих книг и цветов, я говорю: «Я рад, что я родился русским, и никем иным быть бы я не хотел. Люблю Россию. Ничего для меня нет прекраснее и священнее ее. Верю в нее — и жду». В это же время поэт писал в одной из своих статей: «Я люблю Россию и русских. О, мы, русские, не ценим себя! Мы не знаем, как мы снисходительны, терпеливы и деликатны. Я верю в Россию, я верю в самое светлое ее будущее».
Своими путешествиями и их проникновенным воспеванием в стихах Бальмонт заслужил следующие строки Максимилиана Волошина из стихотворения «Напутствие Бальмонту»:
О, поэт пленительнейших песен,
Ты опять бежишь на край земли...
Но и он — тебе ли неизвестен?
Бальмонт, как никто другой был открыт миру и посвятил несколько лет своей жизни переводам лучших образцов мировой литературы — творений Перси Биши Шелли, Эдгара Аллана По, Педро Кальдерона, Э.Т. Гофмана, Оскара Уайльда, Лопе де Веги, Уильяма Блейка, Дж. Байрона, Ш. Бодлера, он осуществил переложение на русский язык знаменитых древнеиндийских памятников («Упанишады», драмы Калидасы, поэма Асвагоши «Жизнь Будды»). Поэт, изучивший после поездки в Грузию в 1914 г. грузинский язык, сделал перевод поэмы Шоты Руставели «Витязь в тигровой шкуре», считая её лучшей поэмой о любви, А после посещения Японии в 1916 году он переводил танка и хокку различных японских авторов. Как писал М. Волошин, «Бальмонт перевёл Шелли, Эдгара По, Кальдерона, Уольта Витмана, испанские народные песни, мексиканские священные книги, египетские гимны, полинезийские мифы, Бальмонт знает двадцать языков, Бальмонт перечёл целые библиотеки Оксфорда, Брюсселя, Парижа, Мадрида... Произведения всех поэтов были для него лишь зеркалом, в котором он видел лишь отражение собственного своего лика в разных обрамлениях, из всех языков он создал один, свой собственный...». И поэт действительно никогда не стремился к точности в переводах: ему часто важнее было передать «дух» подлинника, то, каким он его ощущал.
Естественно, что в обширном кругу интересов поэта находилась и Персия, куда он хотел попасть всю жизнь. Еще в июне 1903 году он писал Брюсову: «Весь теперь в мечтах о следующем. К январю я кончаю Шелли, Эдгара По и третий том Кальдерона. Затем в течение многих месяцев читаю миллионы книг об Индии, Китае и Японии. Осенью будущего года еду в кругосветное путешествие. Константинополь, Египет, вероятно, Персия, Индия, часть Китая, Япония. На обратном пути Америка. Путешествие — год. Если б Вы захотели поехать вместе со мной, это была бы сказка фей. Поедемте. Подумайте, что за счастье, если мы вместе увидим пустыню и берега Ганга, и священные города Индии, и Сфинкса, и Пирамиды, и лиловые закаты Токио, и все, и все». Это кругосветное путешествие, в том числе и посещение Индии, состоялось позже, но, к сожалению, поэт так и не попал в Персию, что не могло не наложить отпечаток на его восприятие этой страны. Дело в том, что поэт предпочитал писать стихи лишь о тех странах, в которых он сам бывал, в отличие от Гумилева, который планировал, к примеру, создать целую «Географию в стихах», понимая, что увидеть большинство стран ему просто не удастся.
Тем не менее, даже не увидев Персии, Бальмонт всегда оставлял ее в поле своего «духовного зрения», прежде всего, по двум причинам. Первая заключалась в его устойчивой и преданной любви к персидской поэзии. Так, в статье «Светозвук в Природе и Световая симфония Скрябина» (1917) Бальмонт писал о современных ему огнепоклонниках и их приверженности не только к поклонению Огню, но и к служению Слову: «До наших дней донесшие, через века, свое Огнепоклонничество, разумеющие голос Огня, Парсы также сочетают ощущение пламени с говорящим глаголом, — в священных книгах «Авесты» они, говоря об Огне, повторяют: «Когда с приближеньем рассвета поет петух, этот барабан мира, демоны дрожат, испуганные. В час озаренья зари, птица знанья, Пародарс, та, что провидит, слышит голос Огня».
И не случайно поэт в 1910 году обратился к восхитительным рубаи Омара Хайяма. Он издал в журнале «Русская мысль» переводы одиннадцати его четверостиший. Любопытно, что Бальмонт был первым русским поэтом, переводившим рубаи именно в форме четверостиший, не считая подчас необходимым воспроизводить размер и рифмовку подлинника. Приведем несколько его четверостиший, убедившись, как виртуозно передавал поэт устойчивые образы лирики Хайяма. О жизни:
Поток времен свиреп, везде угроза.
Я уязвлен и жду все новых ран.
В саду существ я сжавшаяся роза,
Облито сердце кровью, как тюльпан.
А это четверостишие о любви:
Этот ценный рубин из особого здесь рудника,
Этот жемчуг единственный светит особой печатью,
И загадка любви непонятной полна благодатью,
И она для разгадки особого ждет языка.
А это рубаи о человеческой дороге:
О, если б до привала добрести,
Поверить, что придет конец пути!
О, если б через многие столетья
Хотя б травой из праха прорасти!
И, наконец, традиционные четверостишия о вине:
Когда я чару взял рукой и выпил светлого вина,
Когда за чарою другой вновь чара выпита до дна,
Огонь горит в моей груди, и как в лучах светла волна,
Я вижу тысячу волшебств, мне вся вселенная видна.
Бальмонт часто вспоминал и других персидских лириков, написав, в частности, стихотворение «Джэлальэддин Руми».
Второй страстью Бальмонта по отношению к персидской культуре был его неподдельный интерес к учению зороастризма. Еще в раннем своем сборнике «Горящие здания» (1900) поэт поместил стихи «На мотив из Зенд-Авесты» и «Из Зенд-Авесты (Гимн)», где рассказал о древних богах, а в цикле из 7 стихотворений «Гимн огню» в сборнике «Будем как солнце» (1903) он воспел пафосную оду Огню, как основе всего живого:
Вездесущий Огонь, я тебе посвятил все мечты.
Я такой же, как ты.
О, ты светишь, ты греешь, ты жжешь,
Ты живешь, ты живешь!
Поэта смело можно назвать певцом Солнца и Огня, причем эта его страсть, появившаяся в юности, видимо, просто совпала с такой же одержимостью, свойственной древним персидским зороастрийцам:
Как не любить светило золотое,
Надежду запредельную Земли.
О вечное, высокое, святое,
Созвучью нежных строк моих внемли!
Поэт часто уподоблял себя и Солнцу, и Огню:
Я — солнца древний путь от красных скал Тавриза
До темных врат, где стал Гераклов град — Кадикс.
Мной круг земли омыт, в меня впадает Стикс
И струйный столб огня на мне сверкает сизо.
Бальмонт, который писал, что он «никогда не закрывал своего слуха для голосов, звучащих из прошлого и неизбежного грядущего», был прекрасным знатоком древнеиранской культуры и религии. В книге «Зовы древности», вышедшей в 1908 году в Петербурге, а затем переизданной в расширенном виде в 1923 году в Берлине, он собрал гимны, песни и замыслы древних, указав на титульном листе книги такой подзаголовок: «Египет, — Мексика, — Майя, — Перу, — Халдея, — Ассирия, — Индия, — Иран, — Китай, — Япония, — Скандинавия, — Эллада, — Бретань». В эту книгу поэт включил сделанный им перевод «Зенд Авесты» — священного писания древней религии зороастрийцев. Этот вольный перевод, занимающий около 20 страниц в книжном издании, состоит из 9 частей, названия которых говорят сами за себя: «Агурамазда», «Утренняя и вечерняя молитва», «Молитва», «Почитание», «Зерно», «Собака», «Гимн к Вайю», «Гимн к Веретранге», «После смерти».
Однако не только «зороастрийские древности духа» увлекали Бальмонта. С восторгом, близким к «Подражаниям Корану» А.С.Пушкина, он писал и о «поэтике ислама». В очень интересной книге Назима ад-Дейрави «Коран и пророк Мухаммед в русской классической поэзии» (СПб, Фонд исследований исламской культуры, 2011), куда включено 40 стихотворений русских поэтов на темы Корана — от Державина до Бунина — с параллельным переводом на арабский язык, указано, на какие суры и айаты Корана опирался Бальмонт, когда создавал свои стихотворения «Оттуда», «Аль-Хотама», «Клянусь», «Не позабудь» и «О, Пророк». В них есть и воспевание Аллаха («Он Востока есть царь и Заката...»), и призывы к молитвам («Но чтением стройным Корана // Молись, как проходит ночь»), и упоминание о «жгучем Аде», «вечности срама» за неверие. А сам Коран поэт воспринимает, как путеводную книгу жизни:
Не позабудь: Коран — остереженье,
Он указание, куда и как идти.
В его строках — всегда внушенье,
И означение пути.
Написан на страницах он почетных,
Начертан он рукой отчетливых писцов,
Он полон молний искрометных
И угрожающих громов.
За свою бурную жизнь Бальмонт совершил немало путешествий не только земными дорогами — сквозь параллели и меридианы планеты, но и духовными путями «машины времени» — сквозь эпохи и века, сквозь культуры и цивилизации. Однако из всех этих путешествий он выносил стойкое убеждение, что только в России можно найти счастье, покой и душевное равновесие. Вот что он написал однажды, находясь в Африке:
Где б я ни странствовал, везде припоминаю
Мои душистые леса.
Болота и поля, в полях — от края к краю —
Родимых кашек полоса.
Где б ни скитался я, так нежно снятся сердцу
Мои родные васильки.
И в прошлое открыв таинственную дверцу,
Схожу я к берегу реки.
У старой мельницы привязанная лодка, —
Я льну к прохладе серебра.
И так чарующе и так узывно-четко
Душа поет: «Вернись. Пора».
А в 1922 году, уже в эмиграции, Бальмонт написал сонет «Только», где во всю силу прозвучала его тоска по далекой Родине:
Ни радости цветистого Каира,
Где по ночам напевен муэдзин,
Ни Ява, где живет среди руин
В Боро-Будур, Светильник Белый Мира...
Ни Рим, где слава дней еще жива,
Ни имена, чей самый звук — услада,
Тень Мекки, и Дамаска, и Багдада, —
Мне не поют заветные слова, —
И мне в Париже ничего не надо,
Одно лишь слово нужно мне: Москва.
Тоска по России постепенно переходила у поэта в душевную болезнь: «Я хочу России, я хочу, чтобы в России была преображенная заря. Только этого хочу. Ничего иного. Здесь пусто, пусто. Духа нет в Европе. Он — только в мученической России...» — таковы были одни из последних слов умиравшего в 1942 году вдали от Родины в оккупированном немцами Париже Константина Бальмонта. А в небе над Парижем тогда блистало зимнее Солнце...
Иван Алексеевич Бунин
(1870—1953)

Удивительна судьба народа русского: вызревая на просторах среднерусской возвышенности и почти не имея выходов к морям и океанам, за исключением северных, он веками с неимоверной энергией рвался покорить самые дальние пространства, вырваться к морям и найти себя в освоении мировых просторов. И ему удалось добиться этого лучше многих народов мира. Достаточно сказать, что на самый Дальний Восток русские пришли раньше японцев и китайцев, которые находились совсем поблизости от него, но так и не смогли сделать несколько важных шагов. Эта тяга русских к всеохватности и даже всемирности принесла им не только громкие победы, но и неисчислимые страдания, зафиксированные рубцами войн на древе отечественной истории. Однако такое расширение русской цивилизации отнюдь не привело к гибели и деградации народов, вовлечённых в её орбиту, как это не раз бывало с империями другого, колонизаторского типа. Наоборот, благодаря своей всеохватности, российское государство само стало вскоре многонациональным, вобрав в себя культурные богатства множества народов.
А делалась эта гигантская многовековая работа усилиями конкретных энтузиастов и подвижников, казаков и воинов, путешественников и странников, которые, как по волшебству, постоянно появлялись на Земле Русской. Был в их числе и замечательный поэт и писатель Иван Алексеевич Бунин, которого по праву можно назвать «скитальцем русской поэзии». А ведь родился он в удаленном от мировых путей Воронеже и долгие годы жил в Ельце и на Орловщине. Кто тогда, в конце Х1Х века, мог представить, что вырастет из него великий странник, которому суждено будет увидеть почти половину мира. «Странная вещь, — писал позднее Б.К.Зайцев, — этому без конца русскому человеку... орловско-елецкому дворянину, гордившемуся древностью своего рода, чрезвычайно созвучны и благодетельны оказались экзотические страны, океаны». А близко знавшая писателя Г.Н. Кузнецова прямо утверждала, что «Бунин всю свою жизнь жил жизнью не осёдлой, а скитальческой. В России не было у него своего дома, он гостил то у родных в деревне, то жил в Москве — и всегда в гостинице, — то уезжал в странствия по всему миру. Поселившись окончательно во Франции, Бунин и там продолжал жить по-прежнему, часть года в Париже, часть на юге в Провансе, который любил горячей любовью».
У птицы есть гнездо, у зверя есть нора.
Как горько было сердцу молодому,
Когда я уходил с отцовского двора,
Сказать прости родному дому!
У зверя есть нора, у птицы есть гнездо,
Как бьётся сердце, горестно и громко,
Когда вхожу, крестясь, в чужой, наёмный дом
С своей уж ветхою котомкой! —
так Бунин описал свои скитальческие будни в 1922 году. «Мир идущим пыльною дорогой!», — такой завет оставил нам поэт-путешественник, который выразил свою страсть «к перемене мест» яркими словами: «Рельсы всегда будят во мне мою ненасытную страсть к путешествиям. Ведь больше всего на свете я люблю путешествия. И воспоминания о них. Я объездил чуть ли не весь мир. В одном Константинополе был тринадцать раз. А вот Японии и Китая так и не удалось увидеть. Я и сейчас жалею об этом».
А началось всё с его первого путешествия по Малороссии, по Днепру, в 1894 году. «Позднее мне много пришлось помыкаться по белу свету, но, кажется, ни одно моё путешествие не запечатлелось так в моей душе, как эти недолгие скитания по югу России... — писал поэт в рассказе „Казацким ходом“. — Прежде я бессознательно тянулся к скитаниям по новым местам, — теперь я ясно понял, что значат они. Я понял, что для того, чтобы жить полной жизнью, мало науки, мало одних книжных знаний и житейского благополучия. Для меня открылась красота природы, глубокая связь художественных созданий с родиной их творцов, увлекательность изучения народа и поэзия свободы и воли в скитальческой жизни...»
В апреле 1903 года Бунин впервые отправился за границу в Турцию. Как вспоминала впоследствии В.Н.Муромцева, будущая жена писателя, «он в первый раз целиком прочел Коран, который очаровал его, и ему непременно хотелось побывать в городе, завоёванном магометанами, полном исторических воспоминаний, сыгравшем такую роль в православной России, особенно в Московском царстве... Византия мало тронула в те дни Бунина, он не почувствовал её, зато Ислам вошёл глубоко в его душу... Я считаю, что пребывание в Константинополе в течение месяца было одним из самых важных, благотворных и поэтических событий в его духовной жизни... Он взял с собой книгу персидского поэта Саади „Тезкират“, он всегда, когда отправлялся на Восток, возил её с собой. Он высоко ценил этого поэта, мудреца и путешественника, „усладительного из писателей“... Бунину было в эту весну всего 32 года...»
Очень важно, что этой своей первой поездкой Бунин фактически изменил вектор путешествий русских поэтов, которые до этого, подчиняясь тенденциям того времени, устремляли свои взоры в благодатную Европу. Русская интеллигенция к тому времени до мозга костей пропиталась её веяниями, и это распространялось от моды на сюртуки и коляски до моды на революционные идеи. Гоголь писал «Мёртвые души» в Риме, Достоевский колесил по Германии, а Тургенев по Франции... Сорбонна была тогда столь же доступна для образованных кругов, как Петербургский университет, а в споре западников и славянофилов почти всегда побеждали первые. Бунин же почувствовал сначала неясное, а потом всё более сильное влечение к Востоку, при этом он подпитывал свой нарастающий интерес к новому предмету изучением специальной литературы и образцов поэзии и культуры восточных стран. А сама страсть писателя к бродяжничеству проявилась ещё с его юношеских прогулок верхом или пешком по окрестным деревенским просторам.
В творениях поэта зазвучали совершенно новые ноты и образы, как в стихотворении «Айя-Софья», открывая перед российскими читателями ещё неведомый им мир Востока:
Светильники горели, непонятный
Звучал язык, — Великий Шейх читал
Святой Коран, — и купол необъятный
В угрюмом мраке пропадал.
Кривую саблю вскинув над толпою,
Шейх поднял лик, закрыл глаза — и страх
Царил в толпе, и мёртвою, слепою
Она лежала на коврах...
Очарование восточными картинами и приметами ислама, как ранее это происходило и с Грибоедовым, и с Пушкиным, и с Гёте, приводили поэта к не скрываемому религиозному трепету, заставляя его уподоблять самого себя — не много ни мало — самому Магомету. В стихотворении «Белые крылья»
В пустыне красной над Пророком
Летел архангел Гавриил
И жгучий зной в пути далёком
Смягчал сияньем белых крыл.
И я в пути, и я в пустыне,
И я, не смея отдохнуть,
Как Магомет к святой Медине,
Держу к заветной цели путь.
Но зной не жжёт — твоим приветом
Я и доныне осенён:
Мир серебристым, нежным светом
Передо мною напоён.
Поэт вообще не единожды уподоблял себя восточному страннику, который бредёт под звёздами, славя отпущенное ему на жизненном пути. В 1907 году в кратком, но чрезвычайно ёмком стихотворении «Нищий» Бунин пропел, по сути, гимн странникам и путешественникам мира:
Все сады в росе, но теплы гнёзда —
Сладок птичий лепет, полусон.
Возноси хвалы — уходят звёзды.
За горами заалел Гермон.
А потом, счастливый, босоногий,
С чашкой сядь под ивовый плетень:
Мир идущим пыльною дорогой!
Славьте, братья, новый Божий день!
Воспевая Восток, Бунин не забывал и о романтическо-любовном звучании восточного колорита. Достаточно прочесть его стихотворение «Зейнаб»
Зейнаб, свежесть очей! Ты — арабский кувшин:
Чем душнее в палатках пустыни,
Чем стремительней дует палящий хамсин,
Тем вода холоднее в кувшине.
Зейнаб, свежесть очей! Ты строга и горда:
Чем безумнее любишь — тем строже.
Но сладка, о, сладка ледяная вода,
А для путника — жизни дороже!
Восток пленил поэта. И совсем не случайно, собираясь в своё первое длительное путешествие, которое они называли свадебным, Иван Бунин и Вера Муромцева, окончившая естественный факультет Высших женских курсов и знавшая несколько иностранных языков, вновь выбрали именно восточный маршрут. Бунин тогда будто бы повенчался с Востоком, вновь и вновь перечитывал Библию и Коран, снова взял с собой в путь любимого Саади, постоянно читая его творения и восторгаясь ими. Супруги выехали из Одессы в начале апреля 1907 года и вскоре были уже в Константинополе. Затем они посетили Афины, Александрию, Египет, Иудею, Иерусалим, Хеврон, Вифлеем, а впоследствии добрались до Ливана и Сирии, увидев Бейрут, Баальбек и Дамаск. Возвратившись обратно в Египет, в Каир, они восхищались Нилом и пирамидами. Именно тогда Бунин сказал, что «всякое путешествие меняет человека... Как нужно всё видеть самому, чтобы правильно всё представлять себе... Редко кто умеет передать душу страны, дать правильное представление о ней». Он начинает мечтать тогда о том, чтобы на несколько лет уехать из России, совершить кругосветное путешествие, побывать в Африке и Южной Америке, на Таити, в Китае и Японии. Именно это первое большое путешествие словно бы спроецировало всю дальнейшую, кочевую, по сути, жизнь писателя и Веры Николаевны, с постоянной сменой стран и мест пребывания, ведь прожили они совместно сорок шесть с половиной лет.
Конечно, Бунину удалось проехать вдоль и поперёк и почти всю Европу, но именно восточный мир тянул его к себе неотрывно. В середине декабря 1910 года он с женой отправляется в своё новое восточное путешествие, и супругам суждено будет увидеть Константинополь, Луксор, Ассуан, Каир. «Теперь, сбив все сапоги по пескам, могилам, пирамидам и развалинам храмов, ждём парохода на Коломбо, Сингапур, Японию», — писал Бунин в письме Белоусову 31 января 1911 года. Далее, на устаревшем французском пароходе, превращенном из пассажирского в грузовой, супруги неспешно, за 18 дней, по Красному морю и Индийскому океану добрались до Цейлона — самой дальней точке своих странствий, и провели там полмесяца, так и не попав в Сингапур и Японию и вернувшись в Россию только в середине апреля 1911 года.
Воспевая свои странствия в многочисленных стихотворениях и рассказах, вплоть до самых последних дней жизни, писатель слил воедино поэзию и прозу, как единое искусство слова. Его прозаические произведения вообще по своему настрою и ритмике больше напоминают освобождённую от рифм поэзию, нежели обычный литературный слог. «Свои стихи, кстати сказать, я не отграничиваю от своей прозы, — утверждал поэт. — И здесь, и там одна и та же ритмика... — дело только в той или иной силе напряжения её».
Обдумывая увиденное за границей, Бунин пришёл к интересному выводу, объясняющему страсть к путешествиям его самого и многих других подвижников: «Некоторый род людей обладает особенностью особенно сильно чувствовать не только своё время, но чужое, прошлое, не только свою страну, своё племя, но и другие, чужие, не только самого себя, но и ближнего своего, то есть, как принято говорить, „способностью перевоплощаться“, и особенно живой и особенно образной (чувственной) „памятью“. Для того же, чтобы быть в числе таких людей, надо быть особью, прошедшей в цепи своих предков долгий путь многих, многих существований... безмерно обогащённой за свой долгий путь и уже с огромной сознательностью... И вот — поэты, художники, святые, мудрецы, Будда, Соломон, Толстой...» Такое определение поэта вселяет в нас уверенность, что ещё очень и очень долго будут появляться на нашей планете и на русской земле люди, подобные Бунину с его невероятной отзывчивостью на зов времени и приметы бытия.
Согласно представлениям Бунина, поэзия — есть Божья любовь, разлитая в мире, а задача поэта — ловить её и передавать другим людям. И насколько проще это удавалось делать ему в пути, в дороге, во время созерцания новых мест, людей и природных красот.
Пора, пора мне кинуть сушу,
Вздохнуть свободней и полней —
И вновь крестить нагую душу
В купели неба и морей! —
писал поэт в 1916 году и признавался: «Я много... путешествовал по России и за границей... Я, как сказал Саади, стремился обозреть лицо мира и оставить в нём „чекан души своей“, меня занимали вопросы психологические, религиозные, исторические». Он однажды откровенно написал о своём увлечении древней историей: «Тот, кто умер за две, три тысячи лет до нас, и подобия не имеет того, кто умер и погребён полвека тому назад... Две, три тысячи лет — это уже простор, освобождение от времени, от земного тления, высокое и печальное сознание тщеты всяких слав и величий. Все мои самые заветные странствия — там, в этих погибших царствах Востока и Юга, в области мёртвых, забытых стран, их руин и некрополей...»
По словам Н.А. Пушешникова, Иван Алексеевич говорил, что он никогда не чувствовал себя «так хорошо, как в те минуты, когда ему предстоит большая дорога». В октябре 1912 года в беседе с корреспондентом газеты «Голос Москвы» Бунин признался, что в отношении странствий у него «сложилась даже некоторая философия», что «он не знает ничего лучшего, чем путешествия... Путешествия играли в моей жизни огромную роль».
Чем больше поэт путешествовал, тем более он убеждался, что «всё-таки оно есть в мире, — нечто незыблемо-священное». «В море, в пустыне, непрестанно чуя над собой высшие Силы и Власти и всю ту строгую иерархию, которая царит в мире, — говорил он, — особенно ощущаешь, какое высокое чувство заключается в подчинении, в возведении в некий сан себе подобного (то есть самого же себя)». Ночью 12 февраля 1911 года на стоянке в Порт-Саиде писатель записал в своём дневнике следующие проникновенные строки: «Суздальская древняя иконка в почерневшем серебреном окладе, с которой я никогда не расстаюсь, святыня, связующая меня нежной и благоговейной связью с моим родом, с миром, где моя колыбель, где моё детство, — иконка эта уже висит над моей корабельной койкой. „Путь Твой в море и стезя Твоя в водах великих и следы Твои неведомы...“ Сейчас, благодарный и за эту лампу, и за эту тишину, и за то, что я живу, странствую, люблю, радуюсь, поклоняюсь Тому, Кто незримо хранит меня на всех путях моих своей милосердной волей, я лягу, чтобы проснуться уже в пути. Жизнь моя — трепетное и радостное причастие вечному и временному, близкому и далёкому, всем векам и странам, жизни всего бывшего и сущего на этой земле, столь любимой мною. Продли, Боже, сроки мои!»
Эти слова достойны того, чтобы выбить их золотыми буквами на мраморном памятнике всем тем странникам и путешественникам, в том числе и великим поэтам, которые, не жалея себя, узнавали и постигали другие миры, живописуя достопримечательности истории и красоты природы, воспевая Человека и Творца его, проникая в тайны жизни народов планеты. Иван Бунин, пожалуй, как никто в мировой поэзии, понял самую глубинную и трепетную суть путешествий и странствий по белу свету. И не случайно Господь услышал его молитвы, вознаградив писателя долгой жизнью и продлив жизненные сроки его с того памятного февраля 1911 года, когда Бунину было всего 40 лет, до ноябрьских дней 1953 года, то есть ещё на полных открытиями и свершениями 42 года.
Во время всё той же поездки к Цейлону, 15 и 16 февраля 1911 года, Бунин сделал ещё одну возвышенную запись в своём дневнике: «Поздно вечером капитан поздравил нас со вступлением в тропики. Итак, заветная мечта, о которой столько мечтал я, перейдена... В шесть часов, тотчас же после заката солнца, увидал над самой своей головой, над мачтами, в страшно большом и ещё совсем светлом небе, серебристую россыпь Ориона. Орион днём! Как благодарить Бога за всё, что даёт Он мне, за всю эту радость, новизну! И неужели в некий день всё это, мне уже столь близкое, привычное, дорогое, будет сразу у меня отнято, — сразу же и навсегда, навеки, сколько бы тысячелетий ни было ещё на земле? Как этому поверить, как с этим смириться? Как постигнуть всю потрясающую жестокость и нелепость этого? Ни единая душа, невзирая ни на что, в тайне не верит этому. Но откуда же тогда та боль, что преследует нас всю жизнь, боль за каждый безвозвратно уходящий день, час и миг?»
Эту же самую мысль писатель повторил в своём дневнике в апреле 1940 года: «Вот, кажется, теперь уже несомненно: никогда мне не быть, напр., на Таити, в Гималаях, никогда не видать японских рощ и храмов и никогда не увидеть вновь Нила, Фив, Карпана, его руин, пальм, буйвола в грязи, затянутого илом пруда... Никогда! Всё это будет существовать во веки веков, а для меня это всё кончено навсегда. Непостижимо».
Как не хватает нам в обыденной жизни вот такого мощного и всепобеждающего настроя на новые открытия, странствия и свершения, на продолжение своего пути, на продолжение благодатных побед над самим собой и своей ленью. Интерес к жизни никогда не даруется сам по себе, без усилий, его надо лелеять и развивать в своей душе, подчиняясь лозунгу, который сформулировал однажды писатель: «Ничего не охватишь, ничего не узнаешь, а хочется жить бесконечно, так много интересного, поэтического!»
Бунин писал, что подобно тому, как старым морякам снится по ночам море,
И мне в предсмертных снах моих
Всё будет сниться сеть канатов смоляных
Над бездной голубой, над зыбью океана.
А что же древняя и загадочная Персия? Неужели она не влекла к себе «великого скитальца русской поэзии», который, по моим приблизительным подсчётам, среди всех русских поэтов-путешественников уступает по числу увиденных стран только К.Д. Бальмонту? Обратимся к этому вопросу, перечитав фактически полное собрание сочинений писателя.
Впервые тема Персии зазвучала в стихах поэта в
Пастухи пустыни, что мы знаем!
Мы, как сказки детства вспоминаем
Минареты наших отчих стран.
Разверни же, Вечный, над пустыней
На вечерней тверди тёмно-синей
Книгу звёзд небесных — наш Коран!
И склонив колени, мы закроем
Очи в сладком страхе, и омоем
Лица холодеющим песком,
И возвысим голос, и с мольбою
В прахе разольёмся пред Тобою,
Как волна на берегу морском.
Персия появляется в стихах поэта как недостижимая мечта, как загадочный миф, как родина поэзии, которая манит и манит в свои туманные дали. Еще в 1905 году он воспел в стихотворении «Эльбурс. Иранский миф» притяжение персидских далей:
На льдах Эльбурса солнце всходит.
На льдах Эльбурса жизни нет.
Вокруг него на небосводе
Течёт алмазный круг планет...
И Митра, чьё святое имя
Благословляет вся земля,
Восходит первый между ними
Зарёй на льдистые поля.
И светит ризой златотканой,
И озирает с высоты
Истоки рек, пески Ирана
И гор волнистые хребты.
Поэт прекрасно знал историю Персии и древнюю религию огнепоклонников. В стихотворении «Ормузд»
Ни алтарей, ни истуканов,
Ни тёмных капищ. Мир одет
В покровы мрака и туманов:
Боготворите только Свет.
Владыка Света весь в едином —
В борьбе со Тьмой. И потому
Огни зажгите по вершинам:
Возненавидьте только Тьму...
А в истинном своём шедевре «Розы Шираза»
Пой, соловей! Они томятся:
В шатрах узорчатых мимоз,
На их ресницах серебрятся
Алмазы томных крупных слёз.
Сад в эту ночь — как сад Ирема.
И сладострастна и бледна,
Как в шакнизир, тайник гарема,
В узор ветвей глядит луна...
Пой, соловей! Томят желанья.
Цветы молчат — нет слов у них:
Их сладкий зов — благоуханья,
Алмазы слёз — покорность их.
В персидских стихах Бунина бьётся живой пульс далёкой восточной страны, которую писателю так и не суждено было увидеть. А постоянным спутником его в восточных странствиях был, как мы уже отмечали, великий персидский поэт Саади, «да будет благословенно его имя!.. много его жемчужин нанизали мы рядом со своими на нитку хорошего слога», — писал о нём Бунин. В одном из лучших своих рассказов о восточных странствиях «Тень птицы» (1907) поэт подробно описал, как он упивался откровениями Саади: «В пути со мною Тезкират Саади, «усладительнейшего из писателей предшествовавших и лучшего из последующих, шейха Саади Ширазского, да будет священна память его!» И вот, в этой свежести утра, весны и моря, я сижу на юте и читаю:
— «Рождение шейха последовало во дни Атабека Саади...
— Родившись, употребил он тридцать лет на приобретение познаний, тридцать на странствования и тридцать на размышления, созерцание и творчество...
— Как прекрасна жизнь, потраченная на то, чтобы обозреть Красоту Мира и оставить по себе чекан души своей!
— Много странствовал я в дальних краях земли, — читаю я дальше.
— Я коротал дни с людьми всех народов и срывал по колоску с каждой нивы.
— Ибо лучше ходить босиком, чем в обуви узкой, лучше терпеть все невзгоды пути, чем сидеть дома!»
Бунин прекрасно показывает, что очаровательная поэзия Саади зародилась «в туманно-голубой дали» Востока, «в мистериях индусов, в таинствах огнепоклонников, в «расплавке» и «опьянении» суфийства с его мистическим языком, в котором под вином и хмелем разумелось упоение божеством. И опять мне вспоминаются слова Саади:
«Ты, который некогда пройдёшь по могиле поэта, вспомяни поэта добрым словом!
— Он отдал сердце земле, хотя и кружился по свету, как ветер, который, после смерти поэта, разнёс по вселенной благоухание цветника его сердца».
Показывая прекрасное знание персидской поэзии и истории, Бунин причисляет творения Саади к вершинам человеческого гения: «Сев на ковре богопочитания, на пути людей божьей дороги, за каждое своё дыхание рассеивал Саади по жемчужине очаровательнейших газелей — и бесплотные на небесах, слушая его, говорили, что один бейт Саади равняется годичному славословию ангелов».
В 1913 году Бунин ещё раз обратился к своему любимому поэту, переведя на русский «Завет Саади»:
Будь щедрым, как пальма. А если не можешь, то будь
Стволом кипариса, прямым и простым — благородным.
Когда перечитываешь сегодня стихи, рассказы и дневники писателя, посвященные восточным странствиям, больше всего поражает его восторженное и внимательное отношение к исламу. Казалось бы, почему человек, исповедующий православие и не раз демонстрировавший свою привязанность к родной земле, столь рьяно и открыто интересуется другой религией, старается проникнуть в её заветные тайны и обряды, а также понять поведение и веру простых людей? Ответ на этот вопрос, конечно, не может быть односложным. Во-первых, на отношении Бунина к исламу особым образом сказалось поэтическое любопытство, которое всегда отличает великих поэтов, стремящихся прочувствовать и осмыслить незнакомые явления, во-вторых, любовь писателя к истории, особенно древней, не могла не вызвать в нём повышенный интерес к религии, которая не просто определила образ жизни многих народов, но и привела фактически к их переходу или прорыву в совершенно иную цивилизационную модель. В третьих, интуиция и предчувствия поэта уже в те годы ясно показали ему, каким мощным духовным и энергетическим зарядом обладает ислам и насколько усилится в будущем его влияние на развитие человечества. И, наконец, в четвёртых, поэта просто пленила зримая и бросающаяся красота исламского мира с его пёстрыми приметами в области архитектуры, декоративного искусства, поэзии, ремёсел, повседневных традиций и обычаев.
Более упрощённо можно сказать, что поэта Бунина захватила в свой плен поэтика ислама, и совсем не случаен его не скрываемый интерес к&nb
Валерий Яковлевич Брюсов
(1883—1924)

К теме Востока, к страсти путешествий в далекие страны многие русские поэты приходили через знакомство с Баку, который стал почти местом паломничества для мастеров слова, начиная с 10х-20х годов прошлого века. Таковым он оставался еще долгое время. Об этом поэт Анатолий Софронов
Ты вновь собpал
дpузей со всей планеты,
Со всех стоpон измученной земли, —
Любой в Баку становится поэтом,
И все спешат к тебе,
как в гавань коpабли!
Все, кто попадал в этот восточный город — от Велимира Хлебникова и Сергея Есенина до Павла Антокольского и Роберта Рождественского — невольно или сознательно затрагивали, хотя бы вскользь, тему персидского соседства. Об этом может красноречиво свидетельствовать антология стихотворений русских поэтов, посвященных Баку «Если ты Баку не видел...» (Баку, 2005), составленная Агилем Гаджиевым. И не случайно она открывается стихами непревзойденного Валерия Брюсова, которого всегда отличала глубина эрудиции и прекрасное знание истории. Несколько раз побывав в столице Азербайджана, Брюсов, так и не попавший в Иран, просто грезит им в стихотворении «В Баку» (январь 1916):
Сплетается ветеp с янваpским теплом,
Живительно-свежий,
И ищет мечта, в далеке голубом,
Пеpсидских пpибpежий.
Там pозы Шиpаза, там сад Шах-наме,
Газели Гафиза...
И гpезы о пpошлом блистают в уме,
Как пестpая pиза.
Пpивет тебе, дальний и дивний Иpан,
Ты, пpаотец миpа,
Где некогда шли спаpапеты аpмян
За знаменем Киpа...
Но миpно на pейде тpепещут суда
С шелками, изюмом;
Стыдливо о пpистань стучится вода
С пpиветливым шумом...
В другом стихотворении «Баку» поэт вновь увязывает вместе Россию, Азербайджан и Персию, которых соединил гордый Каспий, мечтающий о своем прежнем бескрайнем могуществе:
Холодно Каспию, стаpый воpчит:
Длится зима утомительно долго.
Ноpд, налетев, его волны pябит;
Льдом его колит любовница-Волга!
Бок свой погpеет усталый стаpик
Там, у гоpячих пеpсидских пpедгоpий...
Тщетно! вновь с севеpа ветеp возник,
Веет с России метелями... Гоpе!..
Помнит стаpик, как в былые века
Он шиpоко pазлегался на ложе...
Волга-Ахтуба была не pека,
Моpя Азовского не было тоже;
Все эти pечки: Аму, Сыp-Даpья,
Все, чем сегодня мы каpты узоpим,
Были — его побеpежий семья;
С Чеpным, как с бpатом, сливался он моpем!
Эти стихи вошли в поэтический цикл Брюсова «В Армении», в котором Персия упоминается в нескольких местах, а в главном стихе цикла «К армянам» (1916) поэт, надеясь на возрождение армянского народа, дает пеструю палитру его истории, не забывая и о персидских следах:
Да! Вы поставлены на грани
Двух разных спорящих миров,
И в глубине родных преданий
Вам слышны отзвуки веков.
Все бури, все волненья мира,
Летя, касались вас крылом, —
И гром глухой походов Кира,
И Александра бранный гром...
И уцелел ваш край Наирский
В крушеньях царств, меж мук земли:
Вы за оградой монастырской
Свои святыни сберегли.
Брюсов, будучи, по сути, историком, не только сыграл огромную роль в ознакомлении России с армянской поэзией, в том числе своими замечательными переводами, но и выступил с целым рядом публицистических и научных публикаций, которые были включены в сборник «Об Армении и армянской культуре» (Ереван, 1963). В него вошла и составленная поэтом «Летопись исторических судеб армянского народа», в которой Персии посвящено немало интересных страниц. А впервые Брюсов обратился к древней персидской истории еще в 1895 г. в стихотворении «Львица среди развалин», задумавшись о бренности времен и о недолговечности даже самых мощных империй:
Холодная луна стоит над Пасаргадой.
Прозрачным сумраком подернуты пески.
Выходит дочь царя в мечтах ночной тоски
На каменный помост — дышать ночной прохладой...
Вот оно вдохновение поэта: Брюсов не видел ни Пасаргад, ни Персеполя, но прекрасно уловил то настроение, которое рождают их развалины. Также талантливо поэт воспроизвел и образцы персидской поэзии в своем историко-поэтическом сборнике «Сны человечества», где он старался дать широкую панораму мировой поэзии в своих подражаниях. Он включил в них «Персидские четверостишия» и «Газели»
Не мудрецов ли прахом земля везде полна?
Так пусть меня поглотит земная глубина,
И прах певца, что славил вино, смешавшись с глиной,
Предстанет вам кувшином для пьяного вина.
Брюсов всегда ставил перед собой задачу, особенно в процессе переводческой деятельности, «перевоплощаться» в творцов прошлого и подчеркивал при этом особую важность знания языков. Сам он, помимо знания европейских языков, по его собственным словам, «имел понятие» о санскрите, польском, чешском, болгарском и сербском языках, а также «заглядывал в грамматики языков: древнееврейского, древнеегипетского, древнеарабского, персидского, японского, и хотя не имел досуга изучить их, все же мог составить себе некоторое о них понятие».
Лингвистическая эрудиция вообще была характерна для многих представителей Серебряного века, но даже на этом фоне познания Брюсова, также как и Бальмонта, выглядели по-особому веско. Любопытно, что даже известный в ту эпоху отнюдь не за его литературные достижения С.А. Поляков, совладелец Знаменской мануфактуры и меценат, на чьи средства существовали издательство «Скорпион» и журнал «Весы», владел 15 языками, в том числе такими, как турецкий, персидский, санскрит, арабский, древнееврейский, японский. Брюсов писал о нем, как о прекрасном лингвисте, «который дал мне драгоценные сведения о стихосложении персидском и японском»: «Несколько персидских газелл, прочитанных и переведенных мне С.А. Поляковым, дали мне безмерно больше представлений о персидской поэзии, нежели целые томы исследований о персидской литературe».
В подготовительном плане к «Снам человечества» в разделе «Средневековье» Брюсов записал: «Страна роз. Персия», и далее наметил для себя вехи «поэтических перевоплощений»: «1. Сказание о Агурамазде и Ангроманью (Ормузд и Ариман). 2. Речь Заратуштры. 3, 4. В духе Фирдоуси. 5. В духе Низами. 6, 7, 8. В духе Гафиза. 9, 10. В духе Омара Хайама. 11, 12, 13. Из персидской антологии. 14. В манере Джами». Жаль, что из запланированного поэт сделал далеко не все, но брюсовские четверостишия в «духе Хайама» и газели «в духе Гафиза» мы можем сегодня изучать. Брюсов, кстати, отмечал, что сущность «газеллы — в повторении заключительных слов первого стиха в конце второго стиха и в конце каждого двустишия; все остальное — украшения, которые для данной формы не обязательны»...
Пример творческих порывов Валерия Брюсова в сторону персидской истории и поэзии свидетельствует, что он, как «лакмусовая бумажка» культурных высот Серебряного века, не мог не коснуться этой животрепещущей темы, доказав, что чем выше был в те годы тот или иной поэт, тем скорее в его творчестве должна была зазвучать иранская нота. И это утверждение можно подтвердить примерами других мастеров Серебряного века, в творениях которых Муза дальних странствий звучала, пожалуй, намного сильнее, чем у кого либо еще, — Николая Гумилева и Константина Бальмонта...
Сергей Митрофанович Городецкий
(1884—1967)

Поэты потому и интересны, что они живут в те или иные эпохи и отображают в своем творчестве их самые интересные — бросающиеся в глаза или совсем невидимые — приметы и моменты. Поэтическая мозаика порой дает больше для понимания какой-нибудь эпохи, чем весомые исследования ученых. При этом поэты чаще всего, проживая свои насыщенные тревогами и раздумьями жизни, не умеют стоять в стороне от бурлящих вокруг событий и оказываются, как правило, в самой их гуще. Их будто магнитом притягивают грядущие эпохальные перемены, и они нередко оказываются в эпицентре исторических катаклизмов, путешествуя порою без меры. Особенно это заметно в эпохи войн и революций. Вспомним, какой поэтический взлет вызвали, к примеру, две Отечественные войны — 1812 и
Первая из них, охватывающая период 1810х-1840х годов, связана с русско-персидскими и русско-турецкими войнами, а также с теми трагическими и одновременно героическими событиями на Кавказе, которые привели к вхождению в состав России многих кавказских народов. В это время протекал Золотой век русской поэзии, и «персидское веяние» не могло не коснуться таких творцов этого века, как А.С.Грибоедов, А.С.Пушкин, М.Ю.Лермонтов, Денис Давыдов, В.К.Кюхельбекер, В.Ф. Одоевский и т.д.
Вторая эпоха возросшего влияния персидской темы на русскую поэзию —
Кавказский фронт первой мировой войны открылся 2 ноября 1914 года, когда Россия объявила войну Турции, а 5 и 6 ноября к ней присоединились Англия и Франция. И хотя этот фронт имел для России второстепенное значение по сравнению с Западным фронтом, на нем происходили настолько драматические и важные события, что ему по праву посвящены сотни исследований историков. России тогда следовало опасаться попыток Турции вернуть контроль над крепостью Карс и Батумским портом, которые Турция утратила в конце 1870х годов. Сами же военные действия на Кавказском фронте происходили, главным образом, на территории Западной Армении и на севере Персии. Стороны попеременно боролись за такие города и районы, как Карс, Ардаган, Эрзерум, Трапезунд, район озера Ван, Аджарию, Батумскую область, которые переходили из рук в руки. Поначалу Россия одерживала верх, но затем после Февральской революции и развала армии она фактически утеряла все свои победы. Большевики, заключившие позорный Брестский мир, вообще отказались от многострадальных, отвоеванных ранее земель: Турции передавались не только территории Западной Армении, но и населённые грузинами и армянами области Батума, Карса и Ардагана.
Персия в течение Первой мировой войны сохраняла нейтралитет. Однако её территория, разделенная на сферы влияния: Россия получила северную часть, а Британия — южную с исключительным правом разработки нефтяных месторождений, стала местом военных действий сразу после вступления Османской империи в войну. Поначалу туркам удалось захватить Тебриз и Урмию, затем русские войска заняли Энзели, Казвин, Кум, Хамадан, Керманшах. В апреле 1916 года британское командование обратилось к российским союзникам с просьбой оказать помощь британским войскам, которым грозило окружение турецкими войсками у Багдада. Казачьей сотне Кубанского казачьего войска под командованием есаула В.Д. Гамалия, совершив труднейший рейд, удалось создать впечатление о вступлении в борьбу больших сил русской армии и отвлечь этим часть турецких сил от союзников. За проведенную операцию все нижние чины казачьей сотни были награждены георгиевскими крестами (это был второй случай в истории, после награждения экипажа крейсера «Варяг», когда такими наградами награждалось целое подразделение). В ноябре 1916 года в Тегеране произошла попытка государственного переворота, однако русские войска генерала Николая Баратова подавили это восстание. Российские войска были выведены из Персии лишь в конце 1917 — начале 1918 года в обстановке революционных потрясений.
Для нашего повествования важно констатировать, что в эпицентр событий на Кавказском фронте попал замечательный русский поэт Сергей Митрофанович Городецкий, который прожил яркую и долгую жизнь. Уже первая изданная им в начале 1907 года книга стихов «Ярь» принесла ему известность, благодаря не только неожиданной теме древнеславянской языческой мифологии, но и оригинальному поэтическому языку молодого поэта. А. Блок уже через год после выпуска «Яри» писал, что звезда поэзии Городецкого, «как Сириус, яркая и влажная, поднялась высоко». Затем последовали новые сборники стихов — «Перун», «Дикая воля», «Русь», «Ива», «Цветущий посох», поставившие поэта в первый ряд русских поэтов, особенно учитывая его увлечение фольклором, «народной речью» и истоками русской культуры. И не случайно именно Городецкий вместе с Н. Гумилевым стал одним из столпов нового литературного течения — акмеизма, пришедшего на смену затухавшего символизма. Он занял тогда видное место в кружке «Цех поэтов», объединившем акмеистов.
«Необычная любовь Сергея Городецкого к древней Руси», о чем писал В.Нарбут, не могла не привести его рано или поздно к увлечению Востоком, тем более, что судьба предоставила ему, как и большинству русских поэтов, «искушение Кавказом», имевшим свойство переворачивать сознание поэтических умов. Грянула Первая мировая война, которую Городецкий воспринял как великую очистительную грозу, призванную избавить Россию от внешних врагов и объединить славянство. Наполненный патриотическими чувствами он отправился на Кавказский фронт в качестве корреспондента газеты «Русское слово» и сотрудника Союза земств и городов.
Поэту выпало попасть в апреле-июне 1916 года на земли Турецкой (Западной) Армении, где армянскому народу пришлось пережить геноцид и страшные жертвы. В своем очерке «Разоренный рай» Городецкий писал о районе вокруг озера Арчак — к северо-востоку от города Ван: «Как мирно жили на его берегу, за оградами тополевых садов! Три тысячи было жителей. Земли было много... И вот все разрушено. Церковь осквернена. Семьдесят стариков и старух — все, что осталось. Зато растолстевшего воронья не счесть, костей не собрать, пепла не развеять». То же самое поэт писал о городе Ван: «Ван — могила. Ван — беспредельное кладбище. Это город мертвых. Было больше ста тысяч жителей. Осталась только память о них — три-четыре тысячи жителей». Однако поэт все-таки верил в возрождение этих краев: «Их тех тяжелых дней вынес я светлую уверенность, что разоренный ванский рай восстановится скорее, чем можно этого ожидать, глядя на развалины: жизнь, ютящаяся в них, тому порукой».
В своей небольшой книге стихов «Ангел Армении» поэт ярко и образно описал свою боль за эту землю:
Узнать тебя! Понять тебя! Обнять любовью,
Друг другу двери сердца отворить!
Армения, звенящая огнем и кровью,
Армения, тебя готов я полюбить.
Я голову пред древностью твоей склоняю
И красоту твою целую в алые уста.
Как странно мне, что я тебя еще не знаю.
Страна-кремень, страна-алмаз, страна-мечта!..
Стихи «Арчак», «Ван», «Сад», «Руки девы», «Прощанье», «Панихида», «Путница», «Руки девы», «Ребенок», «Транспорт» и несколько других поэт наполнил такими словами скорби и отчаянья, что они до сих пор читаются с самыми тяжелыми чувствами. Лишь Россия, вставшая на защиту армянского народа, несла надежду на будущее, и не случайно в главном стихотворении своего цикла с тем же названием «Ангел Армении» уже в 1918 году Городецкий привел слова спасающего многострадальную Армению Ангела:
«Восстань, страна, из праха и руин!
Своих сынов рассеянных сомкни
В несокрушимый круг восторженных дружин!
Я возвещаю новой жизни дни».
А Февральскую революцию поэту пришлось встретить уже в Персии, которая, хотя и сохраняла нейтралитет, оказалось ареной борьбы двух основных группировок, столкнувшихся в мировой войне. Городецкий служил тогда санитаром в лагере сыпнотифозных больных в Шерифханэ, на территории Ирана, на берегах озера Урмия, которое расположено не так уж и далеко от турецкого города и озера Ван. Известно, что поэт в Персии чуть не погиб, и о его смерти даже появилось газетное сообщение.
Деталей присутствия Городецкого на иранской земле известно совсем мало, но очевидно, что на севере Ирана ему пришлось провести довольно длительное время. И хотя это совсем далеко от Тегерана, Исфахана, Шираза — жемчужин Персии, все-таки Городецкий оказался вторым после А.С. Грибоедова известным в России поэтом, посетившим Иран. И нам очень интересно почувствовать в его стихотворении «Персия» (1918) те же самые нотки, которые чуть позднее — в
Вот какой увидел Персию Городецкий:
В Гиляне, где в лазурь вплавляет
Свои червонцы апельсин,
Где цапля розою пылает
В просторе рисовых долин...
Промчалась буря по базарам,
Смерчами дервиши прошли,
Крича, что северным пожаром
Зарделся берег Энзели.
И Персия с глазами лани,
Подняв испуганно чадру,
Впилась в багряный флаг, в Гиляне
На синем веющий ветру.
Повторим образы, впечатлившие поэта: «лазурь» Гиляна, «цапля розою пылает», «жемчуг с миндалей», «синеющие четки волн», «россыпь песков», «Персия с глазами лани», и перед нами всплывут из памяти эпитеты, которые использовал Есенин в своем цикле «Персидские мотивы». Есенин вообще был близок с Городецким, считая его и своим учителем, и своим другом, ведь тот одним из первых оценил талант молодого поэта, когда Есенин пришел к нему в 1915 году с запиской от Блока и завязанными в деревенский платок стихами. Именно Городецкий свел Есенина с Клюевым и другими деревенскими поэтами, во многом определив дальнейшую творческую судьбу поэта...
Городецкий отразил свою восточную эпопею в нескольких публицистических статьях 1917 года: «Голубые берега», «Город призраков», Древности Вана«, «Храмы Ормузда, Христа и Аллаха». В последней из них он описал оскверненную на берегу озера Арчак церковь: «Долго нельзя уйти от этих развалин. Крыши нет, стены разрушены... Память невольно хочет обмануть вас, отодвинуть эту ужасную картину куда-нибудь в прошлое... но вы слышите тяжелый запах, идущий от бесформенных груд пепла, щебня и камней. Это — свежие могилы. И не спастись от ужаса, не забыть этой картины... тени армянских мучеников носятся над всей землей».
Городецкий, сломавший за месяц до этого во время аварии ногу, покидал Ван в середине ноября 1917 года с болью в сердце, ибо город опять попал в турецкие руки. Но поэта утешало то, что результатом его благотворительных трудов в Ванском приюте, вместе с товарищами по Союзу городов и земств, стало спасение многих и многих жизней армянских детей. Как писал сам Городецкий, он «вез будущее Армении: шесть фургонов детей. Боже, какая это всеискупляющая радость — море детских голов, гроздья детских черных глаз, лесок загорелых ручонок!.. Подумайте только, буквально из крови и огня взять детей и создать им, потерявшим все, круглым сиротам, сносные условия жизни, когда кругом ад и смерть — какая это настоящая радость! Ведь в этих маленьких птенцах — семена всей будущей жизни страны... На золотых скрижалях мира, которые уже видны в огне войны, в ряду других народов-мучеников, ярко сверкает имя Армении Воскрешающей...»
И поэт, как провидец, оказался совершенно прав, когда он вглядывался в будущее многострадальной Армении и обращался к «печальным теням» погибших:
Когда же плоды золотые
Нальются на ветках счастливых,
Вы вспомните, тени святые,
О песнях моих молчаливых.
О вере моей громогласной,
Что жизнь торжествует победно,
Что смерти зиянье напрасно,
Что люди не гибнут бесследно...
Сергею Городецкому судьба подарила после пребывания в Персии еще одну встречу с этой загадочной страной. Так получилось, что после Октябрьской революции он продолжал жить на Кавказе — сначала в Тифлисе, потом в Баку, где вел активную литературную и общественную деятельность и где в должности руководителя отдела художественной пропаганды и агитации Кавказского отделения РОСТА и литературной части Политуправления Каспийского флота познакомился с поэтом Велимиром Хлебниковым. Когда возникла Гилянская советская республика в Иране, Городецкий в начале 1921 года вместе с другими сотрудниками КавРОСТА (Хлебников приехал туда немного позднее), которые выпускали газету «Красный Иран», выступали с лекциями, рисовали агитационные плакаты, отправился в Энзели, а потом Решт, где и увидел своими глазами, как причудливо и неожиданно развивалась «красная революция» в Персии.
Городецкий был неплохим художником и оставил несколько колоритных зарисовок увиденного, передающих пеструю палитру той эпохи. 7 марта 1921 года он закончил в Реште драматические сцены «Красный Иран», с четырьмя героями — «Красноармеец, перс, шах, англичанин». Эта одноактная пьеса несколько раз разыгрывалась перед частями Персидской Красной армии, дислоцировавшимися в Иране, и принесла автору известность.
Сергей Городецкий осенью 1921 года уехал из Кавказа в Москву, и уже не был свидетелем продолжавшихся там и в Персии событий. Но он пристально издалека за ними следил. Хлебникову, который умер в 1922 году, Городецкий посвятил прощальные строки, в которых «урус-дервиш, поэт-бродяга» бродит по Персии «за взлётом розовых фламинго, за синью рисовых полей»:
Заря лимонно-рыжим шелком
Над бархатной вспахнулась тьмой,
Когда в луче он скрылся колком,
Всё рассказав и всё ж немой.
Позднее Городецкий опишет свою кавказскую эпопею в романах «Алый смерч» (1927) и «Сады Семирамиды», который будет напечатан лишь после смерти поэта в 1971 году. В них читатель сможет найти много новых и неожиданных для себя примет ушедшего времени. Как писал сам автор, его роман «Сады Семирамиды» повествует «о гибели населения Турецкой Армении». В нем отражен короткий, но самый трагический период в истории Армении с весны 1915 по осень 1916 года: геноцид западных армян, освобождение русскими Вана, отступление русских войск, новая бойня, массовый исход беженцев. В конце романа словами одного из героев автор выражает надежду на спасение армянского народа, которое должно придти из России: «А куда же нам деваться? — заволновался Костя. — Клочок земли, на котором мы живем тысячи лет, попал между двумя жерновами — Западом и Востоком. Нас топтал Восток — персы, ассирийцы и вавилоняне... Теперь нас уничтожает Турция. Мы знаем, что царская Россия не сахар, но мы не у царя ищем защиты, а у русского народа».
В романе «Алый смерч» обрисована сложнейшая обстановка, сложившаяся на Кавказском фронте накануне Февральской революции и в первые месяцы 1917 года. В образе главного героя романа петербургского врача Ивана Петровича Ослабова, попавшего на фронт, узнаются черты самого автора, который прошел теми же путями (Тифлис-Урмия) и так же как главный герой помогал раненым и больным участникам исторической драмы. Автор рисует в своем романе и передовую, и тыл, и военные госпиталя, и непривычные приметы иранской жизни в районе озера Урмия, и нарастание вокруг революционного брожения.
Тема мировой войны и Персии не отпускала Городецкого до самых последних дней жизни, он планировал продолжить свой прозаический «Ванский эпос», но не успел, уйдя из жизни в июне 1967 года, когда кругом бурлила уже совсем другая эпоха...
Велимир Хлебников (1885—1922)

Место рождения поэта всегда скрывает за собой некую тайну пробуждения поэтической энергии, которая проявляет себя по-настоящему только через много-много лет. Так случилось и с русским поэтом Велимиром Хлебниковым, одной из самой загадочных фигур в истории отечественной поэзии, которому суждено было появиться на свет на перекрестке разных культур и религий, на стыке Запада и Востока. Сам поэт так вспоминал об этом: «Родился 28 октября ст. ст. 1885 года в стане монгольских, исповедующих Будду кочевников — имя „Ханская ставка“, в степи — высохшем дне исчезающего Каспийского моря... Вступил в брачные узы со Смертью и, таким образом, женат». Отец поэта Владимир Алексеевич, ученый, лесовед, орнитолог, служил тогда попечителем Малодербетовского улуса управления калмыцким народом, и как писал впоследствии его сын:
Меня окружали степь, цветы, ревучие верблюды,
Круглообразные кибитки,
Моря овец, чьи лица однообразно худы,
Огнем крыла пестрящие простор удоды —
Пустыни неба гордые пожитки...
По долгу службы отец поэта постоянно переезжал с семьей, сначала на Волынщину, потом в Симбирскую губернию, а затем в Казань и Астрахань, заложив в судьбе поэта стойкую странническую струю, причем такую явную, что она вызывала удивление у многих знавших поэта. Так, В. Маяковский вспоминал: «Ездил Хлебников очень часто. Ни причин, ни сроков его поездок нельзя было понять. Года три назад мне удалось с огромным трудом устроить платное печатание его рукописей. Накануне... я встретил его на Театральной площади с чемоданчиком. „Куда вы?“ — „На юг, весна!..“ — и уехал. Уехал на крыше вагона».
«У гения своя дорога», — сказал как-то сам о себе Хлебников, чья страсть к путешествиям часто переходила всякие границы разумного. Художница Нина Коган, почитательница поэта, спросила его однажды: каждый ли поэт может написать по-настоящему хорошие стихи? «Стихи, — ответил Хлебников, — это все равно, что путешествие, нужно быть там, где до сих пор еще никто не был». Получается, что постоянные разъезды, внезапные отлучки и исчезновения были для Хлебникова продолжением его творческого поиска, ради которого поэт готов был объехать весь свет, хотя бы на крыше вагона, или даже обойти его пешком. Во время Первой мировой войны призванный в армию поэт признавался: «Меня давно зовут „оно“, а не он. Я дервиш, йог, марсианин, что угодно, но не рядовой пехотного запасного полка». Он однажды очень просто сформулировал свою главную мечту: «...Я хотел издали, как гряду облаков, как дальний хребет, увидеть весь человеческий род».
С 1917 года Хлебников постоянно находился в гуще революционных событий. О том годе он писал: «Это было сумасшедшее лето, когда после долгой неволи в запасном пехотном полку, отгороженном забором из колючей проволоки от остальных людей... я испытывал настоящий голод пространства, и на поездах, увешанных людьми... проехал два раза туда и обратно, путь Харьков-Киев-Петроград. Зачем? Сам не знаю». А потом в
Поэта, постоянно интересовавшегося событиями на всем земном шаре и отражавшего в своем творчестве, к примеру, цивилизацию индейцев и завоевание Америки испанцами, африканские коллизии и историю Индии, больше всего влек к себе загадочный Восток. На переломе
Проживая долгое время в Астрахани, поэт считал ее «окном в Персию и Индию», местом, «где смотрит Африкой Россия», «где дышит в башнях Ассирия», где «чалмы зеленые толпой... бродят в праздник мусульман», где «мечеть и храм несет низина». Именно здесь он узнал, что такое ислам, увидев в нем и «русские черты»:
Как знамя мы молодость в бурю возвысим,
Рукой огневою начертим мы смех.
Ах, мусульмане те же русские,
И русским может быть ислам.
(«Хаджи-Тархан», 1913)
Поэт, следя за тем, что происходит в мире, предрекал рождение «единой Азии».
О, Азия! Себя тобою мучу.
Как девы брови я постигаю тучу,
Как шею нежного здоровья —
Твои ночные вечеровья...
О, если б волосами синих рек
Мне Азия обвила бы колени...
Эти строки из поэмы «Азы из узы», написанной весной 1920 года говорят о многом. Именно в этот период поэт мечтал о том, чтобы исполнить свое старое желание совершить паломничество на Восток, к «прародине человечества», и поэтому воссоздал в своей поэме яркую поэтическую панораму Азии. Тема Востока пестрит во многих произведениях Хлебникова. Так, стрежнем фантастической повести «Ка» стала история Медлума и Лейли, сюжет которой получил известность благодаря поэме Низами «Лейли и Меджнун» (1188). И опять действие повести происходит в Египте, Абиссинии, Персии, Индии и других далях. Поэт вообще считал историю ключом к познанию мира: «Мы должны уметь читать знаки, начертанные на страницах прошлого, чтобы освободиться от роковой черты между прошлым и будущим...»
1 сентября 1920 года в Баку начал работу Первый съезд народов Востока. Хлебникову повезло получить от Харьковского политпросвета командировку в Баку и попасть на съезд, который оказал на поэта сильное влияние, воодушевив его выполнить, наконец, свою мечту и посетить Персию, ведь еще 13 июля того же года поэт записал в своем дневнике: «Вышел „Ладомир“. Хотел ехать в Персию». Под впечатлением съезда народов Востока Хлебников как бы предвидел свое будущее:
Видите, персы, вот я иду
По Синвату к вам.
Мост ветров подо мной.
Я Гушедар-мах,
Я Гушедар-мах, пророк
Века сего и несу в руке
Фрашокёрети (мир будущего).
...Клянемся золотыми устами Заратустры —
Персия будет советской страной.
Так говорит пророк!
Однако путь в Персию в судьбе поэта лежал через новые поездки в Ростов-на-Дону, Армавир, дагестанский аул вблизи Дербента и снова Баку. Зачисленный в библиотечно-лекторский отдел политпросвета Каспийской флотилии, Хлебников жил в морском общежитии, выступал с лекциями, занимался разносторонним творчеством, вызывая у окружающих постоянное удивление своим странным видом. Как вспоминала Т.Вечерка, «его видят то босым, то в дырявых ботинках с разматывающимися обмотками: высокий человек с большой рыжеватой гривой волос, в рваном полувоенном ватнике и с толстой бухгалтерской книгой под мышкой». В декабре 1920 года Хлебников выступил в Баку со своим докладом «Коран чисел», в котором сформулировал главные положения его «основного закона времени». Отныне все свои записи он хранил в солдатском жестяном сундучке, с которым никогда не расставался.
«Здесь на Кавказе хорошо, и я поселюсь на всю жизнь где-нибудь в Сочи или в Дербенте. Зимовать буду в Баку», — писал поэт в ноябре 1920 года. А в феврале 1921 году он обращался к В.Маяковскому: «Я живу на грани России и Персии, куда меня очень тянет. На Кавказе летом будет очень хорошо, и я никуда не собираюсь выезжать из него. Снимаю с себя чалму Эльбруса и кланяюсь мощам Москвы». Несомненно, что тяга к Ирану была вызвана у Хлебникова, в том числе и интересом к фигуре А. Грибоедова, нашедшего там свою гибель. Как вспоминал лингвист Роман Якобсон, «на вопрос мой, поставленный напрямик, каких русских поэтов он любит, Хлебников отвечал: «Грибоедова и Алексея Толстого». В творениях поэта вообще, по утверждениям филологов, присутствует немало созвучий и откликов на грибоедовское творчество.
А ситуация в Иране тем временем все больше приближала встречу с ним Хлебникова. Дело в том, что еще в апреле 1920 года по всему Северному Ирану поднялось широкое восстание против иранского правительства и поддерживавших его англичан, а 17 мая из Баку вышла Волжско-Каспийская военная флотилия под командованием Федора Раскольникова и Серго Орджоникидзе и взяла курс на Энзели, где находились корабли, уведенные деникинцами из России. Вскоре начались боевые действия, англичане и белогвардейцы отступили. Воспользовавшись моментом, 4 июня 1920 года отряды восставших сил под командованием Мирзы Кучук-хана взяли город Решт — столицу остана Гилян, а 5 июня после переговоров с советскими представителями там же была провозглашена Гилянская Советская республика. Были сформированы Реввоенсовет республики, правительство и армия, главой республики был назначен Кучук-хан. Однако вскоре последний поссорился с коммунистами, ушел из Решта, а к власти в Гиляне пришел Национальный комитет во главе с Эхсаноллой-ханом. Армия республики предприняла наступление на соседнюю провинцию Зенджан с дальнейшей перспективой взять Тегеран, но была отброшена иранскими войсками.
О трагической судьбе первого вождя Гилянской республики Мирзы Кучук-хана, Хлебников вспоминал в 1922 году, незадолго до своей смерти: «Я узнал, что Кучук-хан, разбитый наголову своим противником, бежал в горы, чтобы увидеть снежную смерть, и там, вместе с остатками войск, замерз во время снеговой бури на вершинах Ирана. Воины пошли в горы и у замороженного трупа отрубили жречески прекрасную голову и, воткнув на копье, понесли в долины и получили от шаха обещанные 10 000 туманов награды».
В сентябре 1920 года правительство РСФСР приняло решение о сворачивании своей военной операции в Иране и приступило к переговорам с шахским правительством. 26 февраля 1921 года был заключён советско-иранский договор о постепенном выводе советских войск. Согласно договору, они начали покидать Гилян с апреля и были полностью выведены к 8 сентября 1921 года. Однако в начале этого года на помощь Гилянской республики из Баку направляются военные части сформированной Персармии (кстати, комиссаром штаба этой армии стал авантюрист Я.Г.Блюмкин, убивший в 1918 году немецкого посла Мирбаха), а вместе с ними туда едут также журналисты, художники, лекторы и другие гражданские лица, прикомандированные к военным. В эту группу попадает в качестве лектора и Хлебников, а вместе с ним также талантливый художник Мечислав Доброковский, который сдружился с поэтом еще в Баку.
13 апреля 1921 года на пароходе «Курск» Хлебников отплывает в Персию. О восторге, который испытывал поэт, свидетельствует его письмо В.В.Хлебниковой: «Знамя Председателей Земного Шара, всюду следующее за мной, развевается сейчас в Персии. 13/IV я получил право выезда... плыл на юг к синим берегам Персии. Покрытые снежным серебром вершины гор походили на глаза пророка, спрятанные в бровях облаков. Снежные узоры вершин походили на работу строгой мысли в глубине божиих глаз... Синее чудо Персии стояло над морем, висело над бесконечным шелком красно-желтых волн, напоминая о очах судьбы другого мира.... Уезжая из Баку, я занялся изучением Мирза-Баба, персидского пророка, и о нем буду читать здесь для персов и русских: „Мирза-Баб и Иисус“. Персам я сказал, что я русский пророк».
Поэт прибывает в Энзели и ступает на персидскую землю. Очарованный увиденным, он восторженно пишет: «Энзели встретило меня чудным полднем Италии. Серебряные видения гор голубым призраком стояли выше облаков, вознося свои снежные венцы. Черные морские вороны с горбатыми шеями черной цепью подымались с моря. Здесь смешались речная и морская струя и вода зелено-желтого цвета. Закусив дикой кабаниной, сабзой и рисом, мы бросились осматривать узкие японские улицы Энзели, бани в зеленых изразцах, мечети, круглые башни прежних столетий в зеленом мху и золотые сморщенные яблоки в голубой листве.
Осень золотыми каплями выступила на коже этих золотых солнышек Персии, для которых зеленое дерево служит небом. Это многоокое золотыми солнцами небо садов подымается над каменной стеной каждого сада, а рядом бродят чадры с черными глубокими глазами. Я бросился к морю слушать его священный говор, я пел, смущая персов, и после 11/2 часа боролся и барахтался с водяными братьями, пока звон зубов не напомнил, что пора одеваться...»
Художник М.Альтман вспоминал: «Как-то после моего возвращения из Персии в Баку я встретил Хлебникова грустно бредущим по берегу Каспия.
— Отчего вы в грустях, Велимир?
— Хочу в Персию: все едут, а я вот один не еду.
Вскоре, впрочем, поехал и он. О его „прибытии“ в Персию мне... рассказали следующее. Уже очень близко от входа в порт Энзели, там, где капитан русского корабля сдает управление персидскому лоцману и при этом, естественно, происходит некоторая задержка, Хлебников, горя нетерпением скорее вступить на легендарную персидскую землю, каким-то способом спустился с парохода и по воде в одежде добрался до берега! Рассказ явно фантастический, и за его достоверность я отнюдь не ручаюсь. Привожу его лишь, чтобы показать, каким Хлебникова представляли близко его знавшие и какими он уже при жизни обрастал легендами».
Хлебникову выпало провести на иранской земле всего лишь три с половиной месяца, но какое колоссальное воздействие это время оказало на его творчество и взгляды. Постоянных и тяжелых обязанностей у поэта тогда не было, и он окунулся в атмосферу незнакомой жизни, постигая приметы иранского бытия и восхищаясь богатством местной природы. В своей «Иранской песне» он смачно описывал моменты этой счастливой для него жизни:
Как по речке по Ирану,
По его зеленым струям,
По его глубоким сваям,
Сладкой около воды,
Вышло двое чудаков
На охоту судаков.
Они целят рыбе в лоб,
Стой, голубушка, стоп!
Они ходят, приговаривают.
Верю, память не соврет,
Уху варят и поваривают...
Верю сказкам наперед:
Прежде сказки — станут былью...
Из Энзели Персармия направилась в Решт, чтобы потом наступать на Тегеран. В Реште на русском языке выходила газета Персармии «Красный Иран» с приложением «Литературный листок». Сотрудником этой газеты и стал Хлебников. Член редколлегии газеты А.Е.Костерин
На другой день в редакцию неожиданно вошел тот странный человек, которого я увидел в узле рештских улиц. Высокий и сутуловатый, он, молча, неторопливо прошагал босыми ногами по ковру, положил на стол несколько листиков бумаги и сказал:
— Вот... стихи...
Повернулся и так же неторопливо вышел. Мы оба — редактор и секретарь — удивленно переглянувшись, тотчас же взяли листки. Под стихами была краткая и не менее странная, чем сам посетитель, подпись — «Хлебни». Стихи поэта стали часто появляться в газете. «Я сотрудник русского еженедельника на пустынном берегу Персии», — писал он родным.
В Персии Хлебников, привыкший ранее за свои чудачества получать лишь насмешки и презрение, вдруг почувствовал себя «в своей тарелке», здесь люди воспринимали странствующих бедняков, всяких чудаков и оригиналов, как уважаемых личностей, как дервишей. И в поэте многие местные жители стали узнавать именно дервиша, прозвав его Гуль-муллой. Однажды Хлебников провел целую ночь в сакле на полу с местным дервишем, который читал поэту Коран и подарил ему посох, шапку и шерстяные носки, которые, правда, вскоре у поэта украли.
А. Костерин в очерке «Русские дервиши» вспоминал: «Хлебников и Доброковский часто сидели или возлежали в какой-либо чайхане, курили терьяк и пили крепкий чай. Доброковский рисовал портреты всем желающим, не торгуясь и даже не спрашивая платы. Заказчики сами клали около „русских дервишей“ серебро. Доброковский с поразительным равнодушием так же легко выбрасывал это серебро за терьяк или водку. Он обладал изумительной памятью и очень быстро научился болтать по-персидски. Во время болтовни Доброковского с персами Хлебников, углубившись в себя и беззвучно шевеля губами, обычно молчал и, как мне кажется, именно в это время в его голове зрели строчки будущих стихов.
Такое поведение создало и Хлебникову и Доброковскому славу „русских дервишей“, священных людей. Накурившись терьяку, оба так и оставались ночевать в чайхане... Несмотря на странность этих штатных агитаторов, Реввоенсовет армии справедливо считал их совершенно необходимыми работниками. В религиозных и бытовых в условиях того времени, при настороженном внимании к русским революционерам, несущим на своих знаменах совершенно необычайные лозунги, „русские дервиши“ каким-то трудно объяснимым образом усиливали наши политические позиции».
Испытывая творческий подъем, поэт создал целый цикл иранских стихотворений — «Пасха в Энзели», «Навруз Труда», «Кавэ-кузнец», «Иранская песня», «Курильщик Ширы», «Дуб в Персии», «Ночь в Персии», «С утробой медною», «Юноша», «Ночи запах — эти звезды...», «Воздушный воздухан...», «Стеклянный шест покоя...», «Видите персы...» и т.д. Тогда же он начал писать поэму «Труба Гуль-муллы», во многом автобиографичную, в которой автор нашел своего героя, Гуль-муллу, «священника цветов», «русского дервиша». Позднее похожий автобиографический образ Хлебников развивает в своей сверхповести «Зангези», в которой главным героем выступает пророк, мудрец и проповедник. Поэт успеет в 1922 году подготовить эту книгу к печати, но уже не увидит ее изданной.
В своей литературной автобиографии «Свояси» (1919) Хлебников призывал: «Заклинаю художников будущего вести точные дневники своего духа: смотреть на себя как на небо и вести точные записи восхода и захода звезд своего духа». Его иранские стихи и были, по сути, дневниками поэтического духа, в которых отразились те звезды, которые открылись автору в Персии. Процитируем лишь краткие отрывки из этих стихов Хлебникова, почувствовав их особый настрой
Ноги, усталые в Харькове,
Покрытые ранами в Баку,
Высмеянные уличными детьми и девицами,
Вымыть в зеленых водах Ирана,
В каменных водоемах,
Где плавают красные до огня
Золотые рыбы...
(«Пасха в Энзели»)
А вот стихи о персидской ночи:
Морской берег.
Небо. Звезды. Я спокоен. Я лежу.
А подушка — не камень, не перья:
Дырявый сапог моряка.
В них Самородов в красные дни
На море поднял восстанье
И белых суда увел в Красноводск,
В красные воды.
Темнеет. Темно.
«Товарищ, иди, помогай!» —
Иранец зовет, черный, чугунный,
Подымая хворост с земли.
(«Ночь в Персии»)
И везде поэту видится революционный пыл Востока:
Ночи запах — эти звезды
В ноздри буйные вдыхая,
Где вода легла на гвозди,
Говор пеной колыхая,
Ты пройдешь в чалме зеленой
Из засохнувшего сена —
Мой учитель опаленный,
Черный, как костра полено.
А другой придет навстречу,
Он устал, как весь Восток,
И в руке его замечу
Красный сорванный цветок.
А вот слова прощания с Персией:
Прощайте все!
Прощайте, вечера, когда ночные боги, седые пастухи,
в деревни золотые вели свои стада.
Бежали буйволы, и запах молока вздымался деревом на небо
и к тучам шел.
Прощайте, черно-синие глаза у буйволиц за черною
решеткою ресниц,
Откуда лились лучи материнства и на теленка и на людей.
(«Ручей с холодною водой...»)
В это время ситуация в Гиляне обострялась. Эхсанолла-хан, на помощь которому шла Персармия, самовольно двинул свои войска на Тегеран и занял деревню Шахсевар на берегу моря, куда части Персармии добрались морем в начале июля. В составе прибывших были и Хлебников с Доброковским, которые, по словам Костерина, тут же «обосновались в чайхане, где их бесплатно кормили, поили крепким чаем и давали курить терьяк. Около них всегда толпился народ. Доброковский рисовал портреты, карикатуры на Реза-хана, на англичан и на языке фарси разъяснял слушателям программу Эхсаноллы. Хлебников или сидел тут же, присматриваясь к посетителям и прислушиваясь к разговорам Доброковского, или же бродил по ближайшим окрестностям». При этом он изучал персидский язык, знакомился с концепциями Заратуштры, Маздака, Мирзы-Баба и других вероучителей и пророков Востока. Здесь поэту удалось сполна реализовать продекларированную им еще в 1918 году программу жизни свободного речаря: он «бродил и пел».
Как признавался поэт, «я в далекой Персии, на берегу моря в порту Шахсевар, вместе с русским отрядом. Живется здесь скучно, дела никакого, общество — искатели приключений, авантюристы шаек Америго Веспуччи и Фердинанда Кортеца. Зато в смысле продовольствия здесь никаких затруднений». Однако вскоре Хлебников нанялся к Талышскому хану в качестве воспитателя его детей, проработав так почти месяц. Его поразили и нравы, и внешний вид ханского дворца, и неизвестно, сколько бы еще проработал так поэт, если бы Саад-эд-Доуле, главком революционных войск, двигавшихся на Тегеран, не совершил измену. Утром 25 июля его люди захватили работников штаба Персармии, в том числе Доброковского и Хлебникова. Скоро предателя выбили из Шахсевара. «Мы вернули свое имущество, — писал все тот же Костерин, — освободили арестованных. Но Хлебников накануне нашего наступления один ушел в Решт, и никто — ни ханы, ни офицеры Реза-хана — не посмели задержать „русского дервиша“. Его охраняло всенародное почтение и уважение. Босой, лохматый, в рваной рубахе и штанах с оторванной штаниной до колена, он спокойно шествовал по берегу моря от деревни к деревне. И крестьяне охотно оказывали ему гостеприимство».
Странствуя, Хлебников часто спал на голой земле, плохо питался, и это потом не могло не сказаться на его здоровье. Он не хотел покидать Персию, но все же решил после нескольких приключений, в том числе очередного ареста вооруженными людьми, догонять своих. Как объяснял он позже, он решил уехать, потому что Персия давила его «древностью своей многовековой культуры». Ему следовало набраться новых сил. И, конечно, ни о каком первоначальном плане дойти до Индии, ему нечего было и думать. «На одном переходе, — вспоминал Костерин, — я с командиром Марком Смирновым опередил отряд. На пустынной отмели, по пояс в море, мы увидели голого человека. Он стоял неподвижно и смотрел в опаловую даль моря. Легкий ветерок трепал длинные волосы. Смирнов придержал коня и с усмешкой сказал:
— А ведь это наш поэт. Смотри-ка, идет, как по лугам своей деревни. И никто его не тронет, и везде кормят...» Вскоре весь отряд вместе с Хлебниковым на пароходе «Опыт» переправился в Энзели и на следующий день был в Баку. Вернувшись в столице Азербайджана к обычной жизни, поэт стал все чаще ощущать там признаки лихорадки, которая менее чем через год сведет его в могилу. Но он продолжал активно писать и в стихах, и в прозе, вспоминая о пребывании в Персии, к примеру, в черновых набросках очерка «Разин напротив» и в очерке «Ветка вербы». Свой персидский опыт поэт ярко отразил в образе «одинокого лицедея», «вечернего странника», который «влачился по пустыне», «шагая напролом»,
Во сне над пропастями прыгал
И шел с утеса на утес.
Слепой, я шел, пока
Меня свободы ветер двигал
И бил косым дождем...
Я понял, что я никем не видим,
Что нужно сеять очи,
Что должен сеятель очей идти!
(«Одинокий лицедей»)
Самую же полную картину своего пребывания в Иране Хлебников оставил именно в поэме «Труба Гуль-Муллы», где представил самого себя в образе «священника цветов», пророка, странника, который становится своим среди персиян:
«Наш!», — сказали священники гор.
«Наш!», — запели цветы!..
«Наш!», — запели дубровы и рощи...
Только «мой» не сказала
Дева Ирана.
Поэт, описывая удивительную страну, «где все люди Адамы», радуется, что «в этой стране я!». Ему хочется быть «зеленым знаменем пророка», бродить, как дервиш, по просторам страны, ощущать безвозмездную поддержку местных жителей:
Из Энзели мы едем в Казьян.
Я счастье даю? Почему так охотно возят меня?
Нету почетнее в Персии
Быть Гуль-муллой,
Казначеем чернил золотых у весны.
Поэта прельщает его новая роль и слияние с удивительным миром:
Сегодня я в гостях у моря.
Скатерть широка песчаная.
Собака поодаль.
Ищем. Грызем.
Смотрим друг на друга.
Обедал икрою и мелкой рыбешкой.
Хорошо! Хуже в гостях у людей!
Из-за забора «урус дервиш, дервиш урус!».
Десятки раз крикнул мне мальчик.
Пожалуй, Хлебников, как никто из русских поэтов, сумел не только понять неведомый и загадочный мир Ирана, но и вжиться в него, почувствовав на себе самом, что такое для русского человека иная цивилизация под названием Персия. И этот опыт занял достойное место в ряду творческих открытий поэта, которому во многом суждено было определить будущие пути развития русской литературы, ведь он не только творил свои «заумные стихи», но и создавал естественнонаучные, филологические, математические и философские труды, был прекрасным художником-рисовальщиком. Многие из его прозрений казались когда-то утопиями, но сегодня поражают своей точностью: Хлебников смело рассуждал о связи времени и пространства, о цикличности исторических процессов, о влиянии лунных и солнечных циклов на человеческое бытие, о скрытых математических кодах истории, о закономерностях расселения народов в Европе, о судьбах языка, о грядущем развитии России и мира, и даже технических новшествах, которые перевернут мир. Опережая время, поэт называл себя и «вечным узником созвучия», и «других миров ребенком», и «будетлянином» — от слова «будет». «От него пахнет святостью», — сказал как-то о Хлебникове В.Иванов, а В.Маяковский написал в некрологе поэту: «Его биография — пример поэтам и укор поэтическим дельцам... Считаю долгом черным по белому напечатать от своего имени и, не сомневаюсь, от имени моих друзей... что считали его и считаем одним из наших поэтических учителей и великолепнейшим и честнейшим рыцарем в нашей поэтической борьбе».
Об огромном духовном влиянии Хлебникова писали позднее многие поэты. Сергей Городецкий, который возглавлял литературную часть политуправления Каспийского флота в Баку и прекрасно знал поэта, а еще в начале 1917 года во время войны служил санитаром в лагере сыпнотифозных больных в Шерифханэ, на берегах озера Урмия в Иране, в 1925 году писал о странствиях Хлебникова по Персии:
И он ушёл, пытливо-косный,
Как мысли в заумь, заверстав
Насмешку глаз — в ржаные космы,
Осанку денди — в два холста...
Урус-дервиш, поэт-бродяга
По странам мысли и земли!
Как без тебя в поэтах наго!
Как нагло звук твой расплели!
Ты умер смертью всех бездомных.
Ты, предземшара, в шар свой взят.
И клочья дум твоих огромных,
Как листья, по свету летят.
И не случайно поэты подчеркивали именно странническую суть творчества Хлебникова, его одержимость постижением мировых пространств, и в первую очередь Востока. Даниил Андреев сказал об этом лучше других:
Тавриз, Баку, Москва, Царицын
Выплевывают оборванца
В бездомье, в путь, в вагон, к станицам,
Где ветр дикарский кружит в танце,
Где расы крепли на просторе:
Там, от азийских плоскогорий,
Снегов колебля бахрому,
Несутся демоны к нему.
Сквозь гик шаманов, бубны, кольца,
Всё перепутав, ловит око
Толпу грядущих богомольцев
К святыням вечного Востока.
Как феникс русского пожара,
ПРАВИТЕЛЕМ ЗЕМНОГО ШАРА
Он призван стать — по воле рока!
Побывав в Персии почти ровно через сто лет после открытия ее Грибоедовым, Хлебников как бы завершил вековой круг познания этой страны и Востока в целом, который был предначертан русским поэтам на ветрах времени. И он еще раз доказал, что «всемирная отзывчивость» русского человека — это не выдумка писателей и философов, а глубинная особенность народного духа, который всегда воплощали и воплощают, прежде всего, поэты. Превратившись в дервиша, поэт, как никто другой, смог слиться воедино с миром Востока и отразить потом это слияние в своих творениях. И совсем не случайно на надгробии Велимира Хлебникова на Новодевичьем кладбище в Москве установлена древняя «каменная баба» с явными тюркскими чертами, которую с большим трудом разыскали поклонники поэта. Так и спит «русский дервиш» в центре Москвы, а над ним застыл в образе «каменного изваяния» древний Восток...
Николай Степанович Гумилев
(1886—1921)

«Терпкое вино путешествий» приходилось пить в своей жизни миллионам людей, но только единицам удавалось воспеть его пьянящие ароматы не в отрывочных стихотворениях, а в целых поэтических циклах. В мировой поэзии самой масштабной фигурой такого рода, без сомнения, выступает фигура русского поэта Николая Гумилёва, большая часть творческого наследия которого связана с Музой дальних странствий. Известно, что в этой страсти существенную роль сыграла «морская генеалогия» поэта (его отец был судовым врачом и бывал в кругосветных путешествиях, а его дедом по материнской линии был адмирал И.Л. Львов), но огромное воздействие на будущего поэта оказали и классические книги приключений — от Дефо до Киплинга.
Гумилев особенно очаровался Музой дальних странствий ещё во время своих первых путешествий в Константинополь, Александрию, Каир и Афины в
Читая дневники и стихи поэта, поражаешься, насколько экстремальными, с современной точки зрения, были эти путешествия. В 1913 году по командировке Музея антропологии и этнографии Академии наук поэт вместе со своим племянником Николаем Сверчковым более трёх с половиной месяцев исследовал жизнь местных племён Абиссинии, привезя с собой более 130 предметов их быта и около 250 негативов с описью отснятого. Как интересно было бы соединить воедино дневниковые записи, стихи и фотографии этой экспедиции в единое целое и убедиться, что жанр фотостихов, который мне довелось сформулировать в 2006 г. при издании альбома «По русским далям и просторам», по всей вероятности, уже намечался в трудах Гумилева в 1913 году. Просто технические возможности той эпохи ещё не позволяли без особых трудностей соединять фотографии и стихи. Даст Бог, такую реконструкцию экспедиции Гумилёва удастся когда-нибудь сделать в будущем, осуществив особый фотопоэтический проект.
А какой восторг, помимо африканских стихотворений, вызывает сегодня итальянский цикл стихов Гумилёва («Генуя», «Пиза», «Флоренция», «Венеция», «Рим», «Болонья», «Неаполь»), который родился в результате его поездки по Италии вместе с Анной Ахматовой в 1912 году. Позднее, в 1915 году, когда улан Гумилев был уже представлен за свои подвиги к первому Георгиевскому кресту, он признался в письме М. Лозинскому: «Я буду говорить откровенно: в жизни у меня пока три заслуги — мои стихи, мои путешествия и война. Из них последнюю, которую я ценю меньше всего, с досадной настойчивостью муссирует всё, что есть лучшего в Санкт-Петербурге. Я не говорю о стихах... мне досадно за Африку. Когда полтора года назад я вернулся из страны Галла, никто не имел терпенья выслушать мои впечатления и приключения до конца». Когда кругом грохотали пушки, поэт продолжал тосковать по африканским просторам.
Ах, бежать бы, скрыться бы, как вору,
В Африку, как прежде, как тогда,
Лечь под царственную сикомору
И не подыматься никогда, —
писал он в 1917 году. Находясь в Европе по долгу службы до апреля 1918 года, он всё-таки решил вернуться в Россию, как это сделал позднее Андрей Белый, хотя, вероятнее всего, и предчувствовал, что его ждут там самые суровые испытания. Весной 1918 года Гумилев написал:
Франция, на лик твой просветлённый
Я ещё, ещё раз обернусь
И как в омут погружусь бездонный
В дикую мою, родную Русь.
И именно в России, уже осенью 1918 г. у Гумилева рождается замысел книги «География в стихах», в которую, согласно плану, должны были войти разделы Европа, Азия, Африка, Америка, Австралия, Полинезия. Только по Африке в плане намечалось поэтическое отражение 18 стран и природных чудес континента, а в разделе «Азия» должно было быть представлено 17 мест, в том числе 11 стран, включая Персию. Понятно, что поэт и не рассчитывал воочию увидеть все эти места, он готов был довольствоваться только книжными богатствами, чтобы с их помощью отразить поэтическую географию мира. Это говорит о том, насколько важной считал Гумилёв такую работу, ведь это замышлялось в годы разрухи и красного террора. Полностью свой замысел поэт так не исполнил, но летом 1921 года в Севастополе крохотным тиражом увидела свет его книга «Шатёр», в которой автор поместил 12 стихотворений, воспевающих Африку: «Красное море», «Египет», «Сахара», «Судан», «Мадагаскар», «Нигер» и другие. Свою книгу поэт посвятил памяти племянника Н. Сверчкова, своего товарища по абиссинской экспедиции, погибшего в 1919 году на фронте под Екатеринодаром. Самому же поэту оставалось жить тогда чуть больше двух месяцев: он был расстрелян как участник сфальсифицированного чекистами «таганцевского дела» 25 августа 1921 года.
А что же Персия? Неужели она не влекла к себе «странника-конквистадора»? Влекла, да еще как! Интерес к ней лежал у Гумилева в общей плоскости его глубокого увлечения Востоком. В сущности, он был одним из немногих русских поэтов начала XX века, который постоянно обращался к восточной теме. И не только экзотика влекла его в этот иной мир, поэт искал слияния культур Востока и Запада, он имел к восточной культуре ярко выраженный исследовательский интерес. Об этом может свидетельствовать, к примеру, его серьезная работа над переводом вавилонского эпоса «Гильгамеш» или его тесные отношения с востоковедами В.К. Шилейко, Б.А. Тураевым и И.Ю. Крачковским. Поэт дружил также с художниками М. Ларионовым и Н. Гончаровой, которые вообще воспринимали Восток как «первоисточник всех искусств». Сам же Гумилёв «высшей степенью современного русского искусства» называл Николая Рериха именно потому, что он «ищет влияний скандинавских, византийских и индийских, но всех преображённых в русской душе». Получается, что своим идеалом поэт считал путь погружения в чужую культуру и искусство, но с сохранением и развитием своего национального культурного наследия.
В «Письмах о русской поэзии», оценивая вторую часть сборника «Cor Аrdens» поэта Вячеслава Иванова, Гумилев назвал этого поэта и Валерия Брюсова выразителями двух крайностей, присущих русской душе, — с первым связан пестрый мир Востока, со вторым — мир Запада. Для Гумилева же были важны не эти крайности, а русская душа как «целый и законченный организм», образец которой явил во всю силу, по мнению поэта, именно Пушкин. «Мне хочется показать, что Вячеслав Иванов — с Востока, — писал Гумилев о важности восточной темы в поэзии. — Предание не говорит, слагал ли песни царь-волхв Гаспар. Но если слагал — мне кажется, они были похожи на стихи Вячеслава Иванова. Когда ночью он ехал на разукрашенном верблюде, видя те же пески и те же звезды, когда даже ведущая в Вифлеем звезда стала привычной, повседневной, он пел песни, старинные, тягучие, по мелодии напоминающие пяти- и шестисложные ямбы, любимый размер Вячеслава Иванова...» Далее Гумилев прямо сформулировал свои поэтические пристрастия: «Только в стихотворениях, посвященных Востоку, да, пожалуй, в народных русских песнях, тоже сильно окрашенных в восточный колорит и напоминающих по пестроте узора персидские ковры, только в них находишь силу и простоту, доказывающую, что поэт — у себя, на родине».
Напомним, что Вячеслав Иванов был основателем в Петербурге в мае 1906 года кружка гафизитов, названного в честь великого персидского поэта Хафиза (Гафиза) и призванного объединить любителей восточной культуры. Гумилев познакомился с Ивановым в ноябре 1908 года, и они сильно сблизились на некоторое время, в том числе на почве общего интереса к персидской поэзии. Гумилев даже звал Иванова в 1909 году поехать вместе с ним в Абиссинию, но ехать пришлось без него. «В Каире буду ждать телеграммы в русское консульство, — писал Гумилёв Иванову уже из поездки 1 декабря 1909 года. — Письмо очень запоздает. 12го, если не будет телеграммы, еду дальше. Я чувствую себя прекрасно, очень хотел бы Вашего общества». В 1910 году поэты вместе задумывали создание «Геософического общества», которое должно было соединить воедино философию и географию, или иначе — писателей, мыслителей и путешественников.
«Старая Персия», соединившая в себе зороастрийскую и мусульманскую духовные традиции, вообще находилась в центре внимания русских поэтов Серебряного века, которых особенно
интересовал суфизм или мусульманский мистицизм, который они считали родственным православному мистицизму. К примеру, Н.А. Клюев писал в своем автобиографическом труде «Гагарья судьбина» о дальних персидских землях, где «серафимы с человеками брашно делят», он упоминал о секте бабидов и о «христах персидских» — духовидцах и мистиках. Как утверждала специалист по творчеству Гумилева Елена Раскина: «Русская литературная интеллигенция „серебряного века“ считала Персию „страной поэтов“, точнее — страной великих поэтов-мистиков Средневековья. Подобное представление во многом связано с расцветом поэзии на языке фарси в
Будучи тонким знатоком восточной и, в частности, персидской поэзии Гумилев не мог не знать о „семизвездии на небе персоязычной поэзии“, в которое вошли: Фирдоуси — как представитель историко-героического эпоса, Низами как эпик-романтик, Энвери — панегирист, Джелаледин Руми — поэт-мистик, Саади — моралист, Хафиз — любовный лирик, Джами — исключительно великий поэт, сочетавший в себе все поэтические жанры и направления».
Персидские мотивы зазвучали уже в стихотворении Гумилева «Песнь Заратустры» (сборник «Путь конквистадоров», 1905), где поэт восторженно описал мироощущение Заратустры:
Юные, светлые братья
Силы, восторга, мечты,
Вам раскрываю объятья,
Сын голубой высоты...
Кольца роскошные мчатся,
Ярок восторг высоты;
Будем мы вечно встречаться
В вечном блаженстве мечты.
Жаркое сердце поэта
Блещет, как звонкая сталь.
Горе, не знающим света!
Горе, обнявшим печаль!
Интерес Гумилева к персидской поэзии особенно усилился в 1916 году, что доказывает его переписка с Ларисой Рейснер, которая называла Гумилева «великим Гафизом». Но имя Гафиза было выбрано для этой переписки самим Гумилевы, и совсем не случайно, ведь в древней Персии Гафиз (Хафиз) считался не только мастером любовной лирики, но и «толкователем тайн», искусным «чтецом Корана», который получил свой дар после посещения гробницы знаменитого суфийского поэта-мистика Баба Кухи Ширази. В своих письмах
И совсем не случайно в этой переписке появлялись символичные для суфизма «павлиные перья» или «эвкалиптовые и бамбуковые рощи». Дело в том, что в это время Гумилев активно изучал суфизм, работая над арабской сказкой в 3х картинах «Дитя Аллаха» для театра марионеток П.П. Сазонова и Ю.Л. Слонимской. Вкратце ее сюжет таков: Гафиз становится избранником девушки Пери (дитя Аллаха), которая спускается на землю, чтобы стать женой лучшего из людей, а остальные персонажи — красавец, бедуин и калиф — оказываются его соперниками. Сказка полна цитат из персидской лирики, в ней переплелись христианские легенды, мифы древних персов и арабов, учение дервишей, она пестрит суфийскими образами, а ее кульминационный момент венчается обменом газелями между Гафизом и Пери. Главная тема сказки — возвеличивание поэта, который выдерживает соперничество со всеми. Гафиз — идеальный поэт, он живет в волшебном саду, похожем на райский, и, без сомнения, достоин любви Пери. В итоге в последней картине сказки Гафиз торжественно обращается к Хизру — покровителю странствующих и наставнику суфиев:
Великий Хизр, отец садов,
В одеждах, как листва зеленых,
Хранитель звонких родников,
Цветов и трав на пестрых склонах,
На мутно-белых небесах
Раскинул огненную ризу...
Вот солнце! И судил Аллах
О солнце ликовать Гафизу.
Суфии декларировали «полное нестяжание, отсутствие имущества и презрение к материальным благам». Эти же качества проповедует и Дервиш из пьесы «Дитя Аллаха»:
Я стар, я беден, я незнатен,
Но я люблю тебя, Аллах,
И мне невиден, мне невнятен
Мир, утопающий в грехах.
А как красиво, по-восточному звучит признание Гафиза, обращенное к Пери в форме газели:
Твои глаза как два агата, пери!
Твои уста красней граната, пери!
Прекрасней нет от древнего Китая
До западного калифата, пери!
«Подражание персидскому» удалось Гумилеву в сказке «Дитя Аллаха» на славу. А вскоре в стихотворении «Пантум», написанном в 1917 году уже в Париже и посвященном художникам Гончаровой и Ларионову, поэт опять восхищался их склонностью к Востоку и уже напрямую писал о «персидских миниатюрах», отражающих «величье жизни настоящей»:
Тот встал на сказочные тропы
В персидских, милых миньятюрах...
О, как хохочут рудокопы
Везде, в полях и шахтах хмурых.
В персидских, милых миньятюрах
Величье жизни настоящей.
Везде, в полях и шахтах хмурых
Восток и нежный, и блестящий.
Как же поэт попал в Париж? В январе 1917 года полк, в котором служил прапорщик Гумилев, был расформирован, и поэт оказался откомандированным в целях заготовки сена для частей дивизии на станцию Окуловка Николаевской железной дороги, где он и узнал о событиях Февральской революции, к которым проявил полное безучастие. Затем поэт попал в 208й Петроградский лазарет, был награжден орденом Святого Станислава и в апреле 1917 года стал активно хлопотать о своем переводе на Салоникский фронт, где, как он считал, ему найдется достойное место для службы в качестве боевого кавалериста. Эта просьба была удовлетворена, и 15 мая Гумилев отправился в Париж через Стокгольм, Осло, Берген и Лондон, прибыв туда 1 июля. Однако, попасть в Грецию поэту было так и не суждено, ибо судьба вела его... к Персии, как и многих других русских поэтов — Грибоедова, Пушкина, Лермонтова...
В Париже при содействии своих друзей, тех же Ларионова и Гончаровой, Гумилев был прикомандирован в распоряжение представителя русских войск во Франции генерала М.А.Занкевича и вскоре был назначен офицером для поручений при военном комиссаре Временного правительства при русских войсках во Франции Е.И.Раппе, хотя окончательное утверждение поэта на этот пост состоялось только 7 октября 1917 года, буквально накануне Октябрьского переворота. Ситуация вскоре кардинально поменялась, в начале января 1918 года управление военного комиссара было расформировано, и поэт просто «повис в воздухе». Вот тут-то он и начал хлопотать об отправке его на Персидский (или точнее Месопотамский) фронт, узнав, что русский военный агент в Англии генерал Ермолов обратился 6 января к генералу Занкевичу с просьбой о присылке в распоряжение генерала Бичерахова на Персидский фронт 26 русских офицеров, в том числе 16 кавалеристов. Уже 8 января Гумилев подал Занкевичу рапорт: «Согласно телеграммы № 1459 генерала Ермолова ходатайствую о назначении меня на Персидский фронт». Занкевич согласился и телеграфировал Ермолову о своем ходатайстве за прапорщика 5го Александрийского гусарского полка Гумилева «для направления его в качестве кавалериста в Персию в ближайшем будущем... Прапорщик Гумилев отличный офицер. Награжден двумя Георгиевскими крестами и с начала войны служит в строю. Знает английский язык. О резолюции телеграфируйте, обеспечив ему проезд в Англию».
Впервые о своем желании побывать в Персии Гумилев открыто заявил в своем письме Ларисе Рейснер еще 22 января 1917 года: «...Я начал сильно подумывать о Персии. Почему бы мне на самом деле не заняться усмирением бахтияров? Переведусь в кавказскую армию, закажу себе малиновую черкеску, стану резидентом при дворе какого-нибудь беспокойного хана, и к концу войны кроме славы у меня будет еще дивная коллекция персидских миниатюр. А ведь Вы знаете, что моя главная слабость — экзотическая живопись». А теперь, в начале 1918 года, поэт еще сильнее рвался на Восток, в Персию, желая увидеть своими глазами то, что подарило бы ему новое вдохновение. Сама война в Европе перестала его интриговать. Мечтая о Персии, Гумилев оформил свою просьбу туда поехать в стихотворной форме, передав ее полковнику Бобрикову, штаб-офицеру при генерале Занкевиче:
Вдали от бранного огня,
Вы видите, как я тоскую.
Мне надобно судьбу иную —
Пустите в Персию меня!
Наш комиссариат закрылся,
Я таю, сохну день от дня,
Взгляните, как я истомился, —
Пустите в Персию меня...
12 января от Ермолова из Лондона пришел ответ: «Прапорщик Гумилев может быть командирован с нашими офицерами в Месопотамию в распоряжение генерала Бичерахова. Для сего надлежит его немедленно командировать в Лондон без всякой задержки, т.к. 16го или 17го нового стиля офицеры уже должны выехать отсюда». Вот он резкий поворот судьбы! Гумилеву уже видится встреча с персидской землей, овеянной стихами великих поэтов и славой древней истории. И кто знает, как сложилась бы дальше судьба поэта, там под звездами иной цивилизации, если бы только не одно «но», которое подтолкнуло судьбу поэта на ту самую трагическую линию, которая привела его в августе 1921 года в Петроградскую ЧК.
Любопытно, что если бы Гумилев попал в Иран, то он сделал бы это ровно через сто лет после того, как туда направился в 1818 году в первый раз в качестве дипломата А.С.Грибоедов. Какая это была бы захватывающая перекличка сквозь столетие двух великих поэтов — одного из Золотого, а другого — из Серебряного века. И не родилось бы у Гумилева под персидским небом нечто новое и невиданное, как это получилось у Грибоедова с «Горем от ума»?
Однако, поэту выпала иная карта, и, как это часто бывает, здесь важную роль сыграла случайность или простая мелочь. Дело в том, что соглашаясь на приезд Гумилева в Лондон и отправку его в Персию, генерал Ермолов выдвинул условие, что все расходы на эту поездку, а именно — двухмесячное жалование обер-офицера, подъемные — 150 рублей, деньги на приобретение лошади и конского снаряжения — 675 рублей, деньги на приобретение одежды — 150 рублей, на путевое довольствие, суточные на два месяца и стоимость билета на пароходе до Багдада — должен был изыскать генерал Занкевич в Париже. Но деньги удалось собрать только на отправку Гумилева в Лондон, куда поэт и отбыл на пароходе 21 января. Однако, на следующий день генерал Ермолов известил Занкевича: «Ввиду неполучения прапорщиком Гумилевым денег от Вас согласно телеграмме № 1462, я организовать его отправку в Месопотамию на себя взять не могу, а потому откомандировываю его обратно в Ваше распоряжение».
Занкевич попробовал «еще раз исходатайствовать у английского правительства необходимую сумму для командировки», но ничего не вышло: «союзнички» опять повели себя весьма странно, расценив не предоставление Гумилеву средств, как «отсутствие у него рекомендации», и отклонили его командировку в Персию. Они хотели заполучить русского офицера фактически к себе на службу, но... за чужой счет. Не помог и генерал Ермолов. В итоге поэту выдали всего лишь 54 фунта, в том числе 6 фунтов на билет на пароход до Бергена и 12 фунтов на билет для проезда по железной дороге от Бергена до Петрограда. Гумилев нашел для себя временную работу и еще два месяца отработал в шифровальном отделе Русского правительственного комитета в Лондоне. 4 апреля он покинул столицу Великобритании и через Францию, Скандинавию и Мурманск вернулся в конце апреля 1918 года в Петроград, где окунулся в совершенно новую жизнь советской страны. (Интересно напомнить, что также как и Гумилев на Месопотамский фронт был направлен из США адмирал А.В.Колчак, но судьба тоже привела его из Японии не в Персию, а в Россию, в Сибирь, где его также ждали «расстрельные пули» даже раньше Гумилева) ...
Еще один всплеск интереса к Персии проявился в последние годы жизни Гумилева, о чем лучше всего свидетельствует его рукописный сборник «Персия». Как писал в своем дневнике биограф поэта С.П.Лукницкий о причинах этого нового увлечения поэта в голодную эпоху зимы 1921 года: «Чтобы заработать немного денег, Гумилев составлял, как и некоторые другие поэты — Ф. Сологуб, М. Кузмин, М. Лозинский, Г. Иванов, рукописные сборники своих ненапечатанных стихотворений и продавал их в книжном магазине издательства „Петрополис“. Составил несколько сборников: „Fantastica“, „Китай“, „Французские песни“, „Персия“, „Канцоны“, „Стружки“, тетрадь, состоявшую из двух стихотворений: „Заблудившийся трамвай“ и „У цыган“. Сборники писал в одном экземпляре и иллюстрировал собственными рисунками».
Известно, что сборник «Персия» поэт составил 14 февраля 1921 года, то есть всего лишь за полгода с небольшим до своей гибели, и состоял он из стихотворений: «Персидская миниатюра», «Пьяный дервиш» и «Подражание персидскому», а также четырех авторских рисунков. Обратимся к этим почти «прощальным» персидским стихам Гумилева, вошедшим в последний прижизненный сборник «Огненный столп» и составляющим вершину его восточной лирика, почувствовав их колорит и дыхание.
Стихотворение «Подражание персидскому» (оно подобно пушкинскому «Подражанию Корану») было написано поэтом летом 1919 года, и оно действительно воссоздает типичные мотивы персидской лирики:
Из-за слов твоих, как соловьи,
Из-за слов твоих, как жемчуга,
Звери дикие — слова мои,
Шерсть на них, клыки у них, рога.
Я ведь безумным стал, красавица.
Ради щек твоих, ширазских роз,
Краску щек моих утратил я,
Ради золотых твоих волос
Золото мое рассыпал я.
Нагим и голым стал, красавица.
Для того, чтоб посмотреть хоть раз,
Бирюза — твой взор или берилл,
Семь ночей не закрывал я глаз,
От дверей твоих не отходил...
Если солнце есть и вечен Бог,
То перешагнешь ты мой порог.
Существенно, что от лица автора здесь выступает вымышленный персидский поэт, а упоминание о ширазских розах связано с той выдающейся ролью, которую играл город истины и красоты Шираз в мировосприятии персидских поэтов-суфиев, ведь этот город был родиной Хафиза (Гафиза), которого называли «тюльпаном Шираза», и несравненного Саади. «Князем Шираза» называл Гафиза в своей пьесе «Дитя Аллаха» и Гумилев. А гробница Хафиза до сих пор привлекает к себе тысячи поклонников в прекрасном саду Шираза.
Стихотворение «Пьяный дервиш» было написано в ноябре 1920 года, и оно выдержано в форме газели, что подтверждает приверженность поэта классическим формам:
Соловьи на кипарисах и над озером луна,
Камень черный, камень белый, много выпил я вина.
Мне сейчас бутылка пела громче сердца моего:
"Мир лишь луч от лика друга, всё иное — тень его!
Виночерпия взлюбил я не сегодня, не вчера,
Не вчера и не сегодня пьяный с самого утра.
И хожу и похваляюсь, что узнал я торжество:
"Мир лишь луч от лика друга, всё иное — тень его!
Как отмечала филолог Елена Раскина, многие строки этого стихотворения основаны «на суфийской символике: «Мир лишь луч от лика друга, // Все иное — тень его», где под Другом подразумевается Бог, Лик Друга символизирует высшую духовную энергию, Благодать Божию, а луч от Лика Друга — творческую энергию Бога, посредством которой был создан мир. Источником для этого гумилевского стихотворения послужила «Песня» великого персидского поэта, философа и путешественника Насири Хосрова, которая в прозаическом переводе профессора В.А. Жуковского появилась в IV томе «Записок восточного отделения Русского археологического общества».
Суфийской поэзии вообще свойственно «изысканное описание мистического через земное», постоянное привлечение тем «любви и вина», которые олицетворяют, в первую очередь, преданность Творцу, а кроме того, свободолюбие поэта. Вот почему у Гумилева герою стиха и «бутылка пела», и он «виночерпия взлюбил» и был «пьяный с самого утра».
А самое яркое стихотворение из рукописного сборника «Персия» под названием «Персидская миниатюра» было написано Гумилевым еще летом 1919 года и было связано с его увлечением персидской живописью. Как вспоминал поэт Н.М.Минский: «После
войны я встречался с ним в Париже. Прежняя его словоохотливость заменилась молчаливым раздумьем, и в мудрых, наивных глазах его застыло выражение скрытой решимости. В общей беседе он не
участвовал и оживлялся только тогда, когда речь заходила о его персидских миниатюрах». Этот вид живописи символизировал для Гумилева идеальный мир, соединивший в себе воедино искусство и религию. И не маловажно, что искусство миниатюры связывалось в исламе не с ортодоксальными суннитами, а именно с шиитами, мистиками-суфиями, которые доказывали, что запрет изображать животных и человека содержится лишь в преданиях (хадисах), а не в самом Коране. И вот поэт изображает рифмами (рисуя параллельно свой незамысловатый рисунок) одну из персидских миниатюр, в которой есть все:
И небо, точно бирюза,
И принц, поднявший еле-еле
Миндалевидные глаза
На взлет девических качелей.
С копьем окровавленным шах,
Стремящийся тропой неверной
На киноварных высотах
За улетающею серной.
Поэт попадает в мир иной, и это не вызывает у него особой озабоченности, ведь он всегда жил с уверенной надеждой: «Отойду я в селенья святые»:
А на обратной стороне,
Как облака Тибета чистой,
Носить отрадно будет мне
Значок великого артиста.
Благоухающий старик,
Негоциант или придворный,
Взглянув, меня полюбит вмиг
Любовью острой и упорной.
Его однообразных дней
Звездой я буду путеводной,
Вино, любовниц и друзей
Я заменю поочередно.
И вот когда я утолю,
Без упоенья, без страданья,
Старинную мечту мою
Будить повсюду обожанье.
В поэзии Гумилева всегда был сильным мотив поиска и обретения рая. Поэтесса Ольга Мочалова писала в своих воспоминаниях о поэте: «Думается, основная его тема — потеря рая. Он был там. Оттуда сохранилась память о серафимах, об единорогах. Это не поэтические „украшения“, а живые спутники души. Оттуда масштабность огненных напряжений, светов, горений». Муза дальних странствий вела Гумилева по жизни, оставив нам в качестве его завета пожелание быть открытым миру, дорожить свободой, честью и найти в итоге свой рай. И как знаменательно, что поэт нашел его в персидской миниатюре:
Когда я кончу наконец
Игру в cache-cache* со смертью хмурой,
То сделает меня Творец
Персидскою миниатюрой.
* Прятки (франц.)
Сергей Александрович Есенин
(1895—1925)

Только побывав в Иране, я на собственном опыте понял, почему к этой далёкой и таинственной стране так влекло русских путешественников, писателей и поэтов, начиная с Афанасия Никитина, который во время своего «хождения за три моря» посетил Персию более 535 лет назад. Самый показательный пример такой страсти продемонстрировал намного позднее Сергей Есенин, который, так и не попав в Иран, во время трёх своих поездок в Грузию и Азербайджан, с осени 1924 по август 1925 года, написал цикл «Персидские мотивы». Поэт настолько проникся духом и очарованием этой страны, что за несколько месяцев до гибели сумел подняться в данном цикле до вершин своего поэтического творчества.
Но почему именно Персия так влекла к себе «самого русского из всех русских поэтов»? Чтобы понять это, следует хотя бы вкратце обратиться к важным моментам творческой биографии поэта, который, как и многие его собратья по перу, с детства мечтал о дальних странствиях. В своём программном и итоговом стихотворении «Мой путь» (1925) Есенин признавался:
И, заболев писательскою скукой,
Пошёл скитаться я
Средь разных стран,
Не веря встречам,
Не томясь разлукой,
Считая мир весь за обман.
Тогда я понял,
Что такое Русь.
Я понял, что такое слава.
И потому мне
В душу грусть
Вошла, как горькая отрава.
Поэт не раз называл себя странником, «путником, в лазурь уходящим», писал, что «все мы бездомники», что «в этом мире я только прохожий», и старался, по возможности, путешествовать, «шататься», как он иногда говорил, хотя в то смутное время войн и революций это было совсем не просто. И поездка его на Север, на Соловки, в 1917 году, и поездки на Украину, в Харьков, а также на юг России и на Кавказ в 1920 году, дали писателю много материала для творческих поисков. В мае 1921 года Есенин через Поволжье, где свирепствовал страшный голод, приехал в Ташкент, и впервые в своей жизни окунулся в атмосферу Востока. До этого поэт весьма критически относился к надуманным и искусственным, как ему казалось, «восточным мотивам» в творчестве его друзей и соратников по поэтическому цеху, включая Н. Клюева и А. Ширяевца. Последнего он даже упрекал: «Пишешь ты очень много зрящего, особенно не нравятся мне твои стихи о Востоке. Разве ты настолько уже осартился или мало чувствуешь в себе притока своих родных почвенных сил?» Особенно резко Есенин отвергал тогда «ориентализм» Клюева, воспевавшего воссоединение России и Востока и писавшего, например, что «есть Россия в багдадском монисто с бедуинским изломом бровей», что «от Бухар до лопского чума полыхает кумачный май...»
Однако во время пребывания Есенина в Ташкенте и посещения им Бухары и Самарканда в нём что-то стало кардинально меняться. Очарование патриархального Востока вызывало новые мотивы творчества, будило фантазию и иные образы, особенно, если учесть, что в то время Восток действительно бурлил. Красная армия повсюду усмиряла басмачей и всерьёз готовилась к броску в Иран ради освобождения беднейших слоёв и осуществления идей мировой революции. Напомним, что именно весной 1921 года друг Есенина поэт Велимир Хлебников отправился в Иран в составе революционных частей и пробыл там несколько месяцев. Конечно, он в подробностях рассказывал Есенину о своих странствиях, и не именно ли Хлебников пробудил у поэта страстное желание посетить Иран?
Настроения Есенина в этот период были отнюдь не радужными. 6 марта 1922 года он писал о своей жизни в Москве Р.В. Иванову-Разумнику: «Устал я от всего дьявольски! Хочется куда-нибудь уехать, да и уехать некуда... Живу я как-то по-бивуачному, без приюта и без пристанища...» И 10 мая 1922 года поэт, сразу после заключения брака с Айседорой Дункан, вылетает с ней на самолёте в Германию. Это было его первое заграничное путешествие, во время которого он посетил Берлин и многие города Германии, потом отправился в Бельгию и Голландию, прибыл в Париж, откуда супруги также съездили в Венецию и Рим. В своих письмах поэт оставил очень нелицеприятные отзывы о Европе. Вот лишь некоторые из них: «Германия? Об этом поговорим после, когда увидимся, но жизнь не здесь, а у нас. Здесь действительно медленный грустный закат, о котором говорит Шпенглер. Пусть мы азиаты, пусть дурно пахнем... но мы не воняем так трупно, как воняют внутри они... Всё зашло в тупик. Спасёт и перестроит их только нашествие таких варваров, как мы». «Кроме фокстрота, здесь почти ничего нет, здесь жрут и пьют, и опять фокстрот. Человека я пока ещё не встречал и не знаю, где им пахнет... Пусть мы нищие, пусть у нас голод... зато у нас есть душа, которую здесь сдали за ненадобностью в аренду под смердяковщину». «...Так хочется мне отсюда, из этой кошмарной Европы в Россию... Здесь такая тоска, такая бездарнейшая „северянинщина“ жизни... А теперь отсюда я вижу: боже мой! до чего прекрасна и богата Россия в этом смысле. Кажется, нет ещё такой страны и быть не может». И на контрасте поэт тут же признаётся: «Вспоминаю сейчас о... Туркестане. Как всё это было прекрасно! Боже мой!»
Уже в этих словах поэта ощущается его пока ещё слабая тяга к живому Востоку, как альтернативе мёртвому Западу. 7 сентября 1922 года Есенин и Дункан отправляются на пароходе из Гаврской гавани в США, где они пробудут до 4 февраля 1923 года, посетив Нью-Йорк, Бостон, Чикаго, Индианаполис, Кливленд, Милуоки и Детройт. Но и в Новом свете поэт не нашёл для себя вдохновения и получил тот же результат, что и в Европе. Он открыто признавался в письме А.Б. Мариенгофу: «Милый мой Толя! Как рад я, что ты не со мной здесь в Америке, не в этом отвратительнейшем Нью-Йорке. Было бы так плохо, что хоть повеситься... Сидим без копеечки, ждём, когда соберём на дорогу и обратно в Москву. Лучше всего, что я видел в этом мире, это всё-таки Москва... О себе скажу... что я впрямь не знаю, как быть и чем жить теперь. Раньше подогревало то при всех российских лишениях, что вот, мол, „заграница“, а теперь, как увидел, молю Бога не умереть душой и любовью к моему искусству». В своей статье «Железный Миргород» поэт, описывая достижения Америки, вместе с тем подчёркивал явное бескультурье «среднего американца», для которого блага цивилизации затмевали собой духовное содержание жизни. После возвращения из Америки он вновь жил в Париже и Берлине, пока не вернулся в августе 1923 года в Россию. Больше года провёл Есенин заграницей, но написал там не более 10 стихотворений, да к тому же все они были навеяны тоской поэта по России.
Исходя из сказанного, совсем не случайным представляется, что поэт в
Издревле русский наш Парнас
Тянуло к незнакомым странам,
И больше всех лишь ты, Кавказ,
Звенел загадочным туманом.
Здесь Пушкин в чувственном огне
Слагал душой своей опальной:
«Не пой, красавица, при мне
Ты песен Грузии печальной».
И Лермонтов, тоску леча,
Нам рассказал про Азамата,
Как он за лошадь Казбича
Давал сестру заместо брата...
И Грибоедов здесь зарыт,
Как наша дань персидской хмари,
В подножии большой горы
Он спит под плач зурны и тари.
А ныне я в твою безгладь
Пришёл, не ведая причины:
Родной ли прах здесь обрыдать
Иль подсмотреть свой час кончины!
Весьма знаменательно, что, приехав в Тифлис, Есенин, ощущая всеми порывами своей тревожной души неразрывную связь со всеми русскими поэтами, сложившими свои головы на Востоке, специально отправился к могиле Грибоедова и, как вспоминали очевидцы, очень долго стоял у подножия Мтацминды, не отрываясь от решетки, за которой, в глубине небольшого грота, находилось последнее пристанище поэта-посланника. И, конечно, ему вспомнились не только биографические коллизии автора «Горя от ума», но и пушкинские строки из «Путешествия в Арзрум»: «Откуда вы? — Из Тегерана. — Что везете? — Грибоеда!» И как пророчески звучали есенинские предчувствия о его способности подсмотреть на Кавказе «свой час кончины».
Находясь в Батуме, поэт всё ещё чувствовал непреодолимую тоску, которую победить могла только романтика путешествий:
Корабли плывут
В Константинополь.
Поезда уходят на Москву.
От людского шума ль
Иль от скопа ль
Каждый день я чувствую
Тоску...
Каждый день я прихожу на пристань,
Провожаю всех,
Кого не жаль,
И гляжу всё тягостней
И пристальней
В очарованную даль.
И эта очарованная даль звала его именно в загадочную Персию, куда он пытался обязательно добраться. Поэта всегда отличала сильная тяга к чему-то чужому, неизведанному, непонятому, и раскинувшийся поблизости от Кавказа персидский мир не мог не околдовать впечатлительного поэта. "Сижу в Тифлисе. Дожидаюсь денег из Баку и поеду в Тегеран. Первая попытка проехать через Тавриз не удалась«,— писал он Г.А. Бениславской 17 октября 1924 года. Через три дня ей же: «Мне кажется, я приеду не очень скоро. Не скоро потому, что делать мне в Москве нечего. По кабакам ходить надоело. Несколько времени поживу в Тегеране, а потом поеду в Батум или в Баку». Приглашал он к себе и другую московскую знакомую: «...На неделю могли бы поехать в Константинополь или Тегеран». Это намерение не оставляло его и позже. 14 декабря 1924 года он писал П.И.Чагину (именно ему поэт потом и посвятит свой цикл «Персидских мотивов») из Батума: «Черт знает, может быть, я проберусь к Петру в Тегеран», имея в виду брата Чагина В.И. Болдовкина, который в то время был комендантом советского посольства в Тегеране. И как показательно, что именно в Батуме 20 декабря 1924 года поэт сделал очень важный для него вывод: «Только одно во мне сейчас живёт. Я чувствую себя просветвлённым, не надо мне этой шумной глумливой славы, не надо построчного успеха. Я понял, что такое поэзия. Не говорите мне необдуманных слов, что я перестал отделывать стихи. Вовсе нет. Наоборот, я сейчас к форме стал ещё более требователен. Только я пришёл к простоте... Путь мой, конечно, сейчас очень извилист. Но это прорыв. Вспомните, Галя, ведь я почти 2 года ничего не писал, когда был за границей».
Получается, что именно Восток и мечты о Персии позволили поэту сделать свой новый прорыв к вершинам поэтического творчества. Во время пребывания на Кавказе поэту пишется очень легко, ведь кроме «Персидских мотивов» он написал там и такие известные стихи, как «Письмо от матери», «Ответ», Русь уходящая«, «Письмо деду», «Батум», «Метель», «Мой путь», а также потрясающую поэму «Анна Снегина». В том же письме к Бениславской поэт сообщал: «Галя, милая, „Персидские мотивы“ это у меня целая книга в 20 стихотворений (на самом деле в цикл поэт включил позднее только 15 стихов. — С.Д.). Посылаю вам ещё 2... Печатайте всё, где угодно. Я не разделяю ничьей литературной политики. Она у меня своя собственная — я сам... Я скоро завалю Вас материалом. Так много и легко пишется в жизни очень редко». Поэт в тот период многое в жизни переосмыслил, жаль только, что оставалось ему жить тогда чуть больше года: «Это просто потому, что я один и сосредоточен в себе. Говорят, я очень похорошел. Вероятно, оттого что я что-то увидел и успокоился...Назло всем не буду пить, как раньше. Буду молчалив и корректен. Вообще хочу привести всех в недоумение. Уж очень мне не нравится, как все обо мне думают».
20 января 1925 года он вновь писал Г.А. Бениславской: «Мне 1000 р. нужно будет на предмет поездки в Персию или Константинополь». Но поездка эта так и не состоялась. И поэт, вернувшись в Москву, уже скоро снова рвётся на Кавказ. «Дела мои великолепны, — писал он в письме Н.К. Вержбицкому из Москвы 6 марта 1925 года, — но чувствую, что надо бежать, чтоб ещё сделать что-нибудь». И вот, прибыв опять в Баку, поэт 8 апреля снова обращается к Г.А. Бениславской: «Главное в том, что я должен лететь в Тегеран. Аппараты хорошие (имеются в виду самолёты. — С.Д.). За паспорт надо платить, за аэроплан тоже... Поймите и Вы, что я еду учиться. Я хочу проехать даже в Шираз и, думаю, проеду обязательно. Там ведь родились все великие персидские лирики. И недаром мусульмане говорят: если он не поёт, значит, он не из Шушу, если он не пишет, значит, он не из Шираза».
Но не только доступные ему образцы персидской поэзии использовал Есенин, когда писал свои стихи о Персии. Он немало почерпнул из рассказов о ней тех своих бакинских и тифлисских приятелей, которые там бывали. В частности, с 1923 года в Персии работал упомянутый выше В.И. Болдовкин. В своих воспоминаниях тот рассказывал: «Сергей с жадностью интересовался памятниками старины. Знаменитая Девичья башня, старый дворец очень интересовали Сергея. Осматривая памятники старины, Сергей задавал мне множество вопросов о Персии. Я почувствовал, что Персия не дает ему покоя, тянет к себе». Он передал следующие слова Есенина: «Ты знаешь, Вася, я хочу создать целый цикл стихов про Восток, про Персию. Про Персию старинную, древнюю, про Персию новую, такую, как она есть». Похож на эти слова и рассказ другого бакинского знакомого Есенина, В.А. Мануйлова: «Наша прогулка завершилась посещением Кубинки, шумного азиатского базара. Мы заглядывали в так называемые «растворы» — лавки, в которых крашенные хной рыжебородые персы торговали коврами и шелками. Наконец мы зашли к одному старику, известному любителю и знатоку старинных персидских миниатюр и рукописных книг. Он любезно принял русского поэта, угощал нас крепким чаем, заваренным каким-то особым способом, и по просьбе Есенина читал нам на языке фарси стихи Фирдоуси и Саади. Уже под вечер мимо лавки прошел, звеня бубенцами, караван из Шемахи или Кубы, заметно похолодало и наступило время закрывать лавку, а мы все сидели и рассматривали удивительные миниатюры, украшавшие старинную рукопись «Шахнаме».
Почему же всё-таки поездка Есенина в Персию так и не состоялась? Ответ на этот вопрос дают воспоминания самого П.И. Чагина: «Поехали на дачу в Мардакянах под Баку... Есенин в присутствии Сергея Мироновича Кирова неповторимо задушевно читал новые стихи из цикла „Персидские мотивы“. Киров, человек большого эстетического вкуса, в дореволюционном прошлом блестящий литератор и незаурядный литературный критик, обратился ко мне после есенинского чтения с укоризной: „Почему ты до сих пор не создал иллюзию Персии в Баку? Смотри, как написал, как будто был в Персии. В Персию мы не пустили его, учитывая опасности, какие его могут подстеречь, и боясь за его жизнь. Но ведь тебе же поручили создать ему иллюзию Персии в Баку. Так создай! Чего не хватит — довообразит. Он же поэт, да какой!“ ...Летом 1925 года я перевёз Есенина к себе на дачу. Это, как он сам признавал, была доподлинная иллюзия Персии — огромный сад, фонтаны и всяческие восточные затеи. Ни дать ни взять Персия».
В письме к Бениславской из Баку поэт признавался: «Внимание ко мне здесь очень большое. Чагин меня встретил как брата... Отношение изумительное». На даче в Мардакянах поэт не только вкусил из чаши восточного радушия и доброты, не только был очарован пестротой красот Востока, но и с наслаждением перепробовал блюда азербайджанской кухни с ее вековыми традициями и оттенками разнообразных вкусов. Очень важно, что свой последний приезд в Баку Есенин совершил с Софьей Андреевной Толстой, внучкой великого писателя, будущей женой поэта, и он не раз признавался ей, что они будто бы попали, как мечтал Пушкин, «в обитель тайную трудов и чистых нег».
А удивиться действительно было чему. Служебной дачей Чагина в Мардакянах была бывшая летняя резиденция нефтяного миллионера Муртазы Мухтарова с удивительной системой сообщающихся колодцев и бассейнов, уникальными фонтанами и архитектурными сооружениями, в том числе особенно глубоким, охлаждающим от изнурительной жары колодцем, экзотическими растениями, а также гулявшими на воле павлинами, лебедями и джейранами. И не стоит удивляться, что такая атмосфера подействовала в воодушевляющем духе на впечатлительного поэта, написавшего своим восточным друзьям: «Не могу долго жить без Баку и бакинцев...» и признавшего в итоге:
Я — северный ваш друг и брат...
Поэты все единой крови,
И сам я тоже азиат —
В поступках, помыслах и слове.
И как приятно сознавать, что, несмотря ни на какие катаклизмы последнего времени, в Мардакянах, где ныне действует Мардакянский дендрарий АН Азербайджана, существует открытый еще в 1975 году по инициативе Г.Алиева Мемориальный Дом-музей Сергея Есенина, расположившийся в трехкомнатном павильоне, где жил поэт...
Из реалий бакинских дней Есенина проясняется, что только боязнь за жизнь поэта не позволила руководству Азербайджана разрешить ему поездку в Иран, в котором действительно тогда было не спокойно, особенно на севере страны, где то и дело вспыхивала череда восстаний и мятежей не без участия революционных посланников из России. (Показательно, что в свой первый приезд в Баку Есенин встретил там Якова Блюмкина, того самого авантюриста и троцкиста, убившего посла Мирбаха и разжигавшего теперь революционный пожар в Иране). А поддержка Есенина самим Кировым, видным партийным деятелем, активным борцом с оппозицией и самим Троцким, объясняет, почему в далёком Баку он чувствовал себя спокойней и надёжней, чем во враждебной ему Москве, где у поэта было много врагов, в том числе среди партийных вождей, особенно троцкистов, и вездесущих чекистов. (В последнее время появляется все больше фактов, что маховик уничтожения поэта был запущен именно троцкистски настроенными деятелями с чекистскими удостоверениями). И кто знает, произошла бы драма в питерском Англетере, если бы поэт снова отправился в конце 1925 года на Кавказ, как это ему хотелось. Тогда поэт писал Чагину в Баку: «Дорогой Петр Иванович! Вязну в хлопотах и жду не дождусь того дня, когда снова предстану у врат Бакраба...»
Трудно даже представить, какие новые шедевры подарил бы миру Есенин, если бы ему всё-таки удалось побродить по бурлящему рынку Тегерана, восхититься стройными мечетями бесподобного Исфахана или поклониться в Ширазе праху горячо любимого им Саади. Однако и всё то, что воображение поэта позволило написать ему о Персии, заставляет удивляться и читателей, и литературных критиков уже многие годы. «Персидские мотивы» поражают своей гармоничностью и проникновением в саму атмосферу Востока. Поэт, переживая крутой перелом в своей жизни, когда он фактически прощался с «голубой Русью», которая окончательно ломалась под напором революции, создал для себя как бы другой «голубой мир», мир персидских напевов, где он мог успокоить своё истерзанное сердце и насладиться фантазиями и образами другой цивилизации, ещё не тронутой безжалостным «катком прогресса». И не случайно поэт называл Персию то «весёлой страной», то «голубой родиной Фирдуси», то «шафрановым краем», то «голубой и ласковой страной».
Хороша ты, Персия, я знаю,
Розы, как светильники, горят
И опять мне о далеком крае
Свежестью упругой говорят, —
писал поэт, объясняясь в любви к стране, которую никогда не видел. Он как «путник, в лазурь уходящий», «в своей скитальческой судьбе» посещал как будто бы и Тегеран («Только тегеранская луна / Не согреет песни теплотою»), и Хороссан («В Хороссане есть такие двери, / Где обсыпан розами порог»), и Шираз («Лунным светом Шираз осиянен, / Кружит звезд мотыльковый рой»), и даже Багдад («Далеко-далече там Багдад, / Где жила и пела Шахразада»), находя на персидских просторах покой и вдохновение:
Улеглась моя былая рана —
Пьяный бред не гложет сердце мне.
Синими цветами Тегерана
Я лечу их нынче в чайхане.
И поэта совсем не смущало то, что он описывал мир, не увиденный им воочию, а воссозданный по крупицам мечтаний, фантазий и чужих свидетельств, мир, приметы которого лишь мерцали в туманных далях. Есенин прямо признавался читателям в этом своем поэтическом обмане:
Никогда я не был на Босфоре,
Ты меня не спрашивай о нем.
Я в твоих глазах увидел море,
Полыхающее голубым огнем.
Не ходил в Багдад я с караваном,
Не возил я шелк туда и хну.
Наклонись своим красивым станом,
На коленях дай мне отдохнуть.
Поэт не скрывал, что в Персию позвала его именно любовь, ведь большинство стихотворений цикла посвящено этому прекрасному чувству. Он как бы лечил свои сердечные раны в объятьях придуманной восточной красавицы, будь то «Шаганэ ты моя, Шаганэ», Лала, Шага или Гелия:
Я сюда приехал не от скуки —
Ты меня, незримая, звала.
И меня твои лебяжьи руки
Обвивали, словно два крыла.
Я давно ищу в судьбе покоя,
И хоть прошлой жизни не кляну,
Расскажи мне что-нибудь такое
Про твою веселую страну.
Поэт ещё и ещё раз воспевал любовь, которая одна только может спасти мир, как бы он ни рушился и взрывался:
Я спросил сегодня у менялы,
Что дает за полтумана по рублю,
Как сказать мне для прекрасной Лалы
По-персидски нежное «люблю»?..
И ответил мне меняла кратко:
О любви в словах не говорят,
О любви вздыхают лишь украдкой,
Да глаза, как яхонты, горят.
Поцелуй названья не имеет,
Поцелуй не надпись на гробах.
Красной розой поцелуи веют,
Лепестками тая на губах.
От любви не требуют поруки,
С нею знают радость и беду.
«Ты — моя» сказать лишь могут руки,
Что срывали черную чадру.
Поэт раз за разом как бы наколдовывал себе восточную или хотя бы ту, уже знакомую ему, русскую любовь («Незадаром мне мигнули очи, / Приоткинув черную чадру»), («Ну, а этой за движенья стана, / Что лицом похожа на зарю, / Подарю я шаль из Хороссана / И ковер ширазский подарю»), прямо говоря об этом в своем поэтическом шедевре:
Шаганэ ты моя, Шаганэ!
Там, на севере, девушка тоже,
На тебя она страшно похожа,
Может, думает обо мне...
Он рисует и рисует в своем воображении образы персидской любви и ласки, как будто защищаясь с их помощью от угроз и опасностей «смутного русского времени»:
Ты сказала, что Саади
Целовал лишь только в грудь.
Подожди ты, Бога ради,
Обучусь когда-нибудь!
И не мучь меня заветом,
У меня заветов нет.
Коль родился я поэтом,
То целуюсь, как поэт.
Через весь цикл «Персидских мотивов», сравнивая два мира и две цивилизации, Есенин сквозной нитью проводит чувство любви к своей далёкой Родине, к любимой Руси, ждущей его в свои объятья:
Тихо розы бегут по полям.
Сердцу снится страна другая.
Я спою тебе сам, дорогая,
То, что сроду не пел Хаям.
Поэт зовёт увидеть его родной край:
У меня в душе звенит тальянка,
При луне собачий слышу лай.
Разве ты не хочешь, персиянка,
Увидать далекий синий край? —
и он уверен, что даже красоте Персии не сравняться с красотой русских просторов:
Потому, что я с севера, что ли,
Что луна там огромней в сто раз,
Как бы ни был красив Шираз,
Он не лучше рязанских раздолий.
В итоге поэт, восхитившись розами, коврами и красавицами Персии, ждёт не дождётся своего возвращения на Родину:
Мне пора обратно ехать в Русь.
Персия! Тебя ли покидаю?
Навсегда ль с тобою расстаюсь
Из любви к родимому мне краю?
Поражает то, что в жизнерадостных «Персидских мотивах» то и дело звучит струна тягостного предчувствия поэта, который понимает, что жить ему осталось совсем недолго, но ничего он с этим поделать не может. Вот эти строки: «Ну и что ж, помру себе бродягой, /На земле и это нам знакомо», «Я сегодня пью в последний раз / Ароматы, что хмельны, как брага. / И твой голос, дорогая Шага, / В этот трудный расставанья час / Слушаю в последний раз», «До свиданья, пери, до свиданья, / Пусть не смог я двери отпереть», «Если душу вылюбить до дна, / Сердце станет глыбой золотою»... Поэт знает свои таланты, силы и возможности, но собственную «скитальческую судьбу», которую олицетворила на тот момент «пара лебедей» из его хрестоматийного стихотворения, он изменить уже никак не может:
У всего своя походка есть:
Что приятно уху, что — для глаза.
Если перс слагает плохо песнь,
Значит, он вовек не из Шираза.
Про меня же и за эти песни
Говорите так среди людей:
Он бы пел нежнее и чудесней,
Да сгубила пара лебедей.
В том же 1924 году поэт прямо признавался:
Мы теперь уходим понемногу
В ту страну, где тишь и благодать.
Может быть, и скоро мне в дорогу
Бренные пожитки собирать.
В предпоследнем стихотворении цикла «Персидские мотивы» Есенин как бы подводит грустный итог своих жизненных и поэтических скитаний, понимая, что дальше искать уже нечего:
Многие видел я страны.
Счастья искал повсюду,
Только удел желанный
Больше искать не буду.
Глупое сердце, не бейся.
Жизнь не совсем обманула.
Новой напьемся силой.
Сердце, ты хоть бы заснуло
Здесь, на коленях у милой.
Жизнь не совсем обманула.
Весьма показательно, что отправляясь в Баку весной 1925 года поэт, заехав к своей бывшей жене Зинаиде Райх, чтобы навестить детей, сообщил няне, работавшей до революции в доме Трубецких, что он собирается ехать в Персию, добавив: «И там меня убьют». Поэт, несомненно, намекал на трагическую участь любимого им Грибоедова, но уж как-то слишком откровенно он связал свою дальнейшую судьбу с судьбой этого «персидского странника», отдавшего свою жизнь в Тегеране на боевом посту дипломатического посланника России. По дороге в Баку у Есенина украли в поезде верхнюю одежду, и он в итоге простудился и заболел. Поэта положили в бакинскую больницу с диагнозом «катар правого легкого», но он сам уверял всех, что у него туберкулез горла и что жить ему осталось не больше полугода (какое точное предчувствие!). Именно в больнице Есенин написал о своей грядущей кончине: «Есть одна хорошая песня у соловушки — / Песня панихидная по моей головушке»...
Прощальные мотивы звучат и в великолепном стихотворении Есенина «Прощай, Баку! Тебя я не увижу...», написанном в мае 1925 года и посвященном городу, который очаровал поэта своей синью, волнами Каспия и майским цветением:
Прощай, Баку! Синь тюркская, прощай!
Хладеет кровь, ослабевают силы.
Но донесу, как счастье, до могилы
И волны Каспия, и балаханский май.
Прощай, Баку! Прощай, как песнь простая!
В последний раз я друга обниму...
Чтоб голова его, как роза золотая,
Кивала нежно мне в сиреневом дыму.
К циклу персидских стихов примыкает и ещё одно важное стихотворение 1925 года, где поэт сравнивал Россию и Персию:
Тихий вечер. Вечер сине-хмурый,
Я смотрю широкими глазами.
В Персии такие ж точно куры,
Как у нас в соломенной Рязани.
Тот же месяц, только чуть пошире,
Чуть желтее и с другого края.
Мы с тобою любим в этом мире
Одинаково со всеми, дорогая.
Вот это единство жизни разных стран и народов и влекло поэта на Восток, в Персию, и не важно, что он почувствовал и увидел такое единство не воочию, а издалека. Ему, как никому другому в русской поэзии, удалось воспеть и отразить самыми пёстрыми красками удивительный мир Персии и оставить нам как завещание чуткое и трогательное отношение к иным народам и культурам, к обычным людям, где бы ни выпало им жить. Ведь после последних стихов персидского цикла, помеченных августом 1925 года, поэт написал всего лишь не более 25 стихотворений. Вернувшись в Россию и посетив свою родную деревню, он признался в сентябре 1925 года:
Снова вернулся я в край родимый.
Кто меня помнит? Кто позабыл?
Грустно стою я, как странник гонимый, —
Старый хозяин своей судьбы...
Все успокоились, все там будем,
Как в этой жизни радей, не радей, —
Вот почему так тянусь я к людям,
Вот почему так люблю людей.
Хочется вспомнить очень точные слова, которые сказал о поэте М. Горький: «...Сергей Есенин не столько человек, сколько орган, созданный природой исключительно для поэзии, для выражения неисчерпаемой „печали полей“, любви ко всему живому в мире и милосердия, которое — более всего иного — заслужено человеком».
И как знаменательно, что на последний яркий поэтический порыв в жизни поэта его вдохновила именно страна с названием Персия. Еще в 1999 году я, считающий себя «поэтом есенинских кровей с почерком серебряного века», написал: «А поэты, если умирают, / Попадают в мир своих стихов». И мне то и дело видится, что «златоглавый поэт», «нежная слава России», «путник, в лазурь уходящий», гуляет сейчас не только по русским полям с васильками и ромашками, но и по усыпанным розами горам и холмам Персии где-нибудь неподалёку от Тегерана или Шираза, а рядом с ним, как братья, идут Хайям и Саади...
Приложение
Москва — самое поэтическое место России
Представляя проект «Поэтические места России», нельзя не задаться вопросом, а какие же места нашей необъятной Родины самые поэтические и каковы критерии для выбора таких мест. Конечно, сразу напрашивается идея вести постоянный рейтинг поэтических мест с помощью голосования пользователей, что мы и реализуем на нашем сайте. Надеемся, что благодаря «лайкам» и активности пользователей — любителей поэзии и путешествий — постепенно мы получим итоги народного голосования, что позволит по-новому взглянуть на те или иные российские места.
Однако кроме откликов пользователей есть еще два критерия, чтобы определить самые поэтические места России. И, конечно, самым интересным и впечатляющим является подсчет того, в каком же городе страны родилось за всю историю больше всего поэтов, впитавших в себя, что называется «с молоком», поэтический дух определенного места на карте России. Попробуем сделать первый шаг к такому подсчету, обратившись, естественно, к столицам нашей Родины — Москве и Санкт-Петербургу, которые давно соперничают за звание поэтической «мекки» России. Тем более, что «северная столица» появилась как раз в начале того самого XVIII века, когда началась почти с самых истоков настоящая история русской поэзии, и она сразу же вступила в борьбу на этом поприще с Москвой.
Опуская все сложные подготовительные этапы сбора информации, объявим сразу полученный результат: самым поэтическим местом России по количеству родившихся в одном месте поэтов, безусловно, становится Москва. Если для упрощения задачи, учитывать только тех поэтов, которые родились в Москве до 1945 года и занимались поэзией что называется профессионально, то есть считали это свое занятие серьезным и значимым, выпускали книги стихов, публиковали подборки стихотворений в журналах и газетах, переводили стихи с других языков, то получится, что в «белокаменной» столице родилось не менее 95 поэтов, причем этот процесс начался еще в 30-40-годах XVIII века, когда на свет появился драматург Д.И. Фонвизин, автор «Недоросли», не чуравшийся стихотворных опытов и переводов французских классиков.
Далее мы впервые в отечественной литературе приведем весь этот список, указав в скобках год рождения того или иного поэта, но сразу отметим, что дело здесь даже не в количестве «поэтов-москвичей» по их рождению, а в «качестве» их талантов. Из более 90 упомянутых поэтов полного списка можно смело выделить около 20 поэтов, которые входят в самый первый ряд русской поэзии, в том числе трех гениев поэтического слова А.С. Грибоедова, А.С. Пушкина и М.Ю. Лермонтова, которые одни только могли бы «перетянуть» на Москву звание первой столицы русской поэзии. А ведь к ним еще следует добавить такие звонкие имена, без которых просто немыслима поэтическая история России: И.А. Крылов, Д.В. Давыдов, П.А. Вяземский, А.А. Дельвиг, Д.В. Веневитинов, А.Н. Майков, А.А. Григорьев, Вячеслав Иванов, В.Я. Брюсов, Андрей Белый, В.Ф. Ходасевич, Б.Л. Пастернак, М.И. Цветаева, С.В. Михалков, А.А. Вознесенский, Б.А. Ахмадулина, В.С. Высоцкий. Это не значит, что оставшиеся имена из полного списка менее значимы, у них у всех был свой творческий почерк, вносивший в мозаику русской поэзии свои неповторимые краски. И очень важно подчеркнуть, что если продлить этот список поэтами-москвичами, родившимися после 1945 года, многие из которых еще творят на благо поэзии, то превосходство Москвы станет еще более очевидным.
Отметим попутно важное обстоятельство, что около половины значимых имен среди поэтов-москвичей появились и творили именно в «золотой век» русской поэзии, заложив его основы и подняв этот век на невиданный ранее уровень (любопытно, что самыми «плодовитыми» оказались в этом смысле около 20 лет — с 1792 по 1814 год — от появления на свет Вяземского до рождения Лермонтова). А примерно по четверти указанного списка поэтов внесли свой весомый вклад в достижения Серебряного века и в копилку «советской поэзии», которую нельзя недооценивать.
Поэты, родившиеся в Москве (до 1945 г.р.)
- А.А. Ржевский (1737)
- С.Г. Домашнев (1742)
- Д.И. Фонвизин (1745)
- Н.Е. Струйский (1749)
- И.М. Долгоруков (1764)
- Н.С. Смирнов (1767)
- И.А. Крылов (1769)
- И.П. Пнин (1773)
- А.Ф. Войейков (1779)
- И.И. Козлов (1779)
- Д.В. Давыдов (1784)
- П.А. Вяземский (1792)
- А.С. Грибоедов (1795)
- Д.И. Долгоруков (1797)
- А.А. Дельвиг (1798)
- А.С. Пушкин (1799)
- П.С. Бобрищев-Пушкин (1802)
- А.И. Тургенев (1803)
- А.С. Хомяков (1804)
- Д.В. Веневитинов (1805)
- Н.П. Греков (1810)
- Е.П. Ростопчина (1811)
- М.Ю. Лермонтов (1814)
- А.Н. Майков (1821)
- А.А. Григорьев (1822)
- Л.А. Мей (1822)
- Н.В. Берг (1823)
- В.П. Буренин (1841)
- П.А. Козлов (1843)
- В.С. Соловьев (1853)
- И.А. Белоусов (1863)
- В.А. Шуф (1865)
- В.И. Иванов (1866)
- П.С. Соловьева (1867)
- В.Я. Брюсов (1873)
- Т.Л. Щепкина-Куперник (1874)
- Г.И. Чулков (1879)
- Андрей Белый (1880)
- С.М. Соловьев (1885)
- В.Ф. Ходасевич (1886)
- Н.Я. Агнивцев (1888)
- Н.В. Крандиевская-Толстая (1888)
- К.А. Липскеров (1889)
- Б.Л. Пастернак (1890)
- В.А. Петрушевский (1891)
- Г.В. Адамович (1892)
- М.И. Цветаева (1892)
- С.В. Шервинский (1892)
- А.И. Пришелец (1893)
- Я.Н. Горбов (1896)
- В.И. Казанский (1896)
- А.Б. Ярославский (1896)
- М.Д. Ройзман (1896)
- В.И. Лебедев-Кумач (1898)
- А.С. Кочетков (1900)
- В.А. Луговской (1901)
- Б.Ю. Поплавский (1903)
- А.Л. Барто (1906)
- Ю.П. Иваск (1907)
- В.М. Гусев (1909)
- С.В. Михалков (1913)
- Е.А. Долматовский (1915)
- М.А. Соболь (1918)
- Давид Самойлов (1920)
- М.В. Михалков (1922)
- А.П. Межиров (1923)
- Н.К. Старшинов (1924)
- Ю.В. Друнина (1924)
- Б.Ш. Окуджава (1924)
- К.Я. Ваншенкин (1925)
- Г.В. Сапгир (1928)
- В.П. Котов (1928)
- Н.С. Анциферов (1930)
- Л.П. Дербенев (1931)
- Е.Л. Храмов (1932)
- А.А. Вознесенский (1933)
- Ю.И. Визбор (1934)
- Ю.С. Энтин (1935)
- В.И. Гафт (1935)
- А.А. Иванов (1936)
- Ю.Ч. Ким (1936)
- Б.А. Ахмадулина (1937)
- Г.Ф. Шпаликов (1937)
- М.Р. Садовский (1937)
- И.В. Кохановский (1937)
- О.М. Дмитриев (1937)
- В.С. Высоцкий (1938)
- В.В. Казаков (1938)
- Д.Е. Авалиани (1938)
- В.В. Казаков (1938)
- Н.М. Олев (1939)
- С.Г. Козлов (1939)
- А.А. Парпара (1940)
- Д.А. Пригов (1940)
- Л.А. Рубальская (1945)
Получается, что в среднем каждые
Добавим для полноты картины, что кроме поэтов в Москве, конечно, рождались и многие прозаики, драматурги, публицисты, критики, переводчики, философы и просто литераторы, многие из которых составили гордость русской литературы. Предварительные подсчеты по той же схеме (до 1945 г.р.) показывают, что таких писателей родилось в Москве не менее 50 человек. И какие славные имена украшают этот список. Приведем только самые значимые из них:
- П.Я. Чаадаев (1794)
- И.И. Пущин (1788)
- М.П. Погодин (1800)
- И.В. Киреевский (1806)
- А.И. Герцен (1812)
- А.В. Сухово-Кобылин (1817)
- С.М. Соловьев (1820)
- Ф.М. Достоевский (1821)
- А.Н. Островский (1823)
- И.С. Шмелев (1873)
- А.М. Ремизов (1877)
- М.С. Шагинян (1888)
- Л.М. Леонов (1899)
- А.Н. Арбузов (1908)
- Б.Н. Полевой (1908)
- Ю.О. Домбровский (1909)
- Ю.В. Мамлеев (1931)
- Кир Булычев (1934)
- С.Б. Рассадин (1935)
- Г.А. Вайнер (1938)
Только Достоевский, Островский и Леонов, родившиеся в Москве, могли бы поспорить за звание Москвы как писательской столицы России. А ведь рождением поэта или прозаика в том или ином месте вовсе не ограничивается влияние этого места на творчество литераторов. Не будем преувеличением сказать, что через Москву не могли не пройти на своем жизненном пути сотни других российских писателей и поэтов, которые подолгу или наездами жили или бывали в Москве, впитывая в себя ее «литературные токи». И естественно, что почти все из них — и те, кто родился в Москве, и те, кто просто успели полюбить столицу, оставляли стихи, ей посвященные. И здесь мы подходим ко второму критерию для выбора самого поэтического места России — количеству написанных в честь этого места стихотворений. Результат очевиден: Москва и по этому критерию опережает другие города, в том числе и Санкт-Петербург. Такой результат диктует не только подборка стихов о Москве, сделанная в рамках нашего проекта на сайте ruspoetry.ru, но и изданные ранее сборники стихотворений о Москве.
Ранее отмечалось отсутствие в России какой-либо единой, хотя бы неполной антологии стихотворений, посвященных тем или иным местам нашей Родины. Однако Москве повезло в этом отношении больше всех других мест страны: только в моей библиотеке я насчитал 5 книг такого свойства. В первой из них: «Город, чудный, город древний... Москва в русской поэзии
Выходит, что именно Москва — самое поэтическое место России. Анна Ахматова не зря писала: «Всё в Москве пропитано стихами, / Рифмами проколото насквозь...» И чтобы доказать это, достаточно обратиться к тем гимнам и стихам-исповедям о Москве, которые оставили сотни русских поэтов, начиная с безвестного, еще не совсем поэта, летописца, автора «Задонщины» (ок. 1389 г.): «Оле жаворонок, летняя птица, красных дней утеха, возлети под синие облакы, посмотри к силному граду Москве, воспей славу великому князю Дмитрею Ивановичю... На Москве кони ржут, звенит слава по всей земле Руской, трубы трубят на Коломне...» А почти через 400 лет после этих событий А.П. Сумароков уже по праву мог воскликнуть:
А ты, Москва! А ты, первопрестольный град,
Жилище благородных чад,
Обширные имущая границы...
И прав оказался поэт конца
Город чудный, город древний,
Ты вмести в свои концы
И посады, и деревни,
И палаты, и дворцы!
Опоясан лентой пашен,
Весь пестреешь ты в садах;
Сколько храмов, сколько башен
На семи твоих холмах!..
Процветай же славой вечной,
Город храмов и палат!
Град срединный, град сердечный,
Коренной России град!
Москву прославляли все наши великие поэты: и А.С. Грибоедов в своем бессмертном «Горе от ума», где Фамусов утверждал: «Решительно скажу: едва / Другая сыщется столица, как Москва», а Чацкий как всегда все подвергал сомнению: «Что нового покажет мне Москва? / Вчера был бал, а завтра будет два». И А.С. Пушкин, который в первозданном черновом варианте строфы из седьмой главы «Евгения Онегина» вот так признавался в любви к своему родному городу:
Москва! Как много в этом звуке
Для сердца русского слилось!..
Как сильно в нём отозвалось!
В изгнаньи, в горести, в разлуке,
Москва! Как я любил тебя,
Святая родина моя!
В черновиках того же «Евгения Онегина» сохранилось и вот такое четверостишие, вновь отсылающее нас к приметам «грибоедовской Москвы»:
Как живо колкий Грибоедов
В сатире внуков описал,
Как описал Фонвизин дедов,
Созвал он всю Москву на бал.
Конечно, самые теплые чувства рождала Москва именно у поэтов, родившихся в этом городе. А.А. Ржевский еще в 1761 году писал:
Прости, Москва, о град, в котором я родился,
В котором в юности я жил и возрастал,
В котором живучи, я много веселился,
И где я в первый раз любви подвластен стал.
Почти такими же словами о Москве высказался юный Лермонтов: «Москва моя родина, и такою будет для меня всегда: там я родился, там много страдал и там же был слишком счастлив». И не случайно эти же чувства он отчеканил всего лишь в четырех возвышенных строках:
Москва! Москва! Люблю тебя как сын,
Как русский, — сильно, пламенно и нежно!
Люблю священный блеск твоих седин
И этот Кремль зубчатый, безмятежный.
Москвичка Марина Цветаева воспринимала столицу как город-чудо, как город-символ: «У меня в Москве — купола горят, / У меня в Москве — колокола звонят». И не случайно она «дарила» петербуржцу Осипу Мандельштаму свой любимый город: «Из рук моих нерукотворный град / Прими мой странный, мой прекрасный брат». Москва захватывала в свои сети всех. Владимир Маяковский, родившийся в Багдати Кутаисской губернии, совсем не кокетничал, когда сказал: «Я хотел бы жить и умереть в Париже, / Если б не было такой земли — Москва».
То же самое произошло и с рязанским пареньком Сергеем Есениным, принявшим всем сердцем этот огромный и не совсем понятный ему город:
Я люблю этот город вязевый,
Пусть обрюзг он и пусть одрях.
Золотая дремотная Азия
Опочила на куполах.
Сменялись века, бежали годы, а Москва продолжала и продолжает очаровывать все новых и новых поэтов, прикасающихся к ее святыням и вехам истории, в том числе самым трагическим. Как писал в своих стихах, ставших известной песней, поэт Евгений Винокуров, вернувшийся с войны,
В полях за Вислой сонной
Лежат в земле сырой
Сережка с Малой Бронной
И Витька с Моховой.
Вот и я сам, приехавший в Москву уже более 40 лет назад, прикипел к ней нешуточно, создав за это время целый цикл — более 50 — стихотворений о столице, постаравшись соединить в себе две, казалось бы, противоположные ипостаси — новгородскую и московскую, веками спорившими между собой:
Очищается душа морозцем,
И метель шальная — нипочём...
Я не зря родился новгородцем,
Став потом случайно москвичом.
Мне, как и сотням других поэтов ранее, пришлось вживаться в Москву, раскрывая ее безмерные тайны:
Москва моя, люблю тебя неведомой любовью,
Хотя не связан я с тобой рожденья кровью.
Опять дожди поют псалмы над башнями Кремля,
И ждёт покоя от ветров московская земля.
Самое сильное, что впечатляло и впечатляет меня в Москве — это зримые приметы ее древней истории, каждый раз открывающиеся по-новому:
Спит Москва, ей что-то снится.
В темноте звучат века.
Распростёрлась над столицей
Их разметная рука.
Спят кремлёвские бойницы
И соборные кресты.
Спят монаршие гробницы
И чугунные мосты...
Спит Москва. В полночном шлеме
Дремлет русская земля.
Зачарованны и немы
Стены стройного Кремля.
Москва, без сомнения, не только самое поэтическое место России, ведь с ней, как со своеобразной поэтической столицей мира, мало кто может соперничать и на всей планете Земля, разве что древний Шираз, где рождалась и расцветала неповторимая персидская поэзия Хайяма, Саади и Хафиза, или средневековая Флоренция, где творили родоначальники европейской поэзии Возрождения Данте, Петрарка и Бокаччо. Еще в 2011 году, находясь во Флоренции, я написал на эту тему стихотворение «Столицы поэзии»:
На свете есть лишь две столицы
Поэзии всемирной высоты:
Одна из них Шираз Персидский,
Саади, Хафиз, Хайям — её цветы.
Другая, где всё шло иначе,
Раскинулась на берегах Арно.
Петрарка, Данте и Бокаччо
Творили здесь давным-давно...
Я третью вижу здесь столицу
Поэзии — далёкую Москву,
Где Пушкину дано было родиться,
Открыв стихами новую главу.
Не мудрено, что русские поэты
Пропели гимн Флоренции не раз.
И песни эти до конца не спеты,
Что и доказываю я сейчас.
И не настало ли время и в правду утверждать Москву как мировую столицу поэзии, для этого у нее есть все основания и права! А чтобы сделать первый шаг к такому утверждению мы как раз и должны собрать воедино и оценить еще раз огромное и неповторимое наследие «московской поэзии», богатство творений «поэтов-москвичей»!
Великий Новгород в русской поэзии
Великий Новгород! Это звонкое и величественное имя знакомо любому россиянину, которому дорога отечественная история. Родина России, колыбель древнерусского государства, Господин Великий Новгород — как только не называли город на Волхове. И совсем не случайно он вдохновлял на поэтические творения многих русских поэтов, часть из которых представлена в проекте «Поэтические места России» — ruspoetry.ru. По количеству стихотворений, посвященных Великому Новгороду, его можно смело отнести к первой десятке самых поэтических мест России. Конечно, ему не сравнится со столицами нашей страны — Москвой и Санкт-Петербургом, о которых писали сотни поэтов, но и десятков стихов мастеров рифмы хватит, чтобы через призму их произведений еще раз вспомнить о славной истории и неповторимом образе Великого Новгорода.
Конечно, поэзия и Великий Новгород сплелись воедино еще в древние времена, когда появилось на свет и постепенно набирало силу такое уникальное явление как русские былины. В этих эпических песнях о героических событиях прошлого соединились народный фольклор, история, мифология и живое биение русского языка, рождавшегося в потоке времени. Новгородские былины, а их известны десятки, занимают ключевое место в ряду былин, которые вообще принято делить по месту своего происхождения на киевские, новгородские и общерусские (более поздние). Самые известные былины новгородского цикла — это былины о Садко и Василии Буслаеве, демонстрирующие наиболее характерные черты былинного эпоса Земли Новгородской. В.Г. Белинский писал об этих былинах, что в них видна вся остальная «сказочная поэзия русская», а по поводу Садко он оставил такие слова: «Вся поэма проникнута необыкновенным одушевлением и полна поэзии. Это один из перлов русской народной поэзии».
И совершенно не случайно именно былины стали для многих русских поэтов (кстати, также как для композиторов и художников) толчком к раскрытию новгородской тематики. Особенно характерен в этом отношении замечательный писатель и поэт А.К. Толстой
Одолела сила-удаль меня, молодца,
Не чужая, своя удаль богатырская!
А и в сердце тая удаль-то не вместится,
А и сердце-то от удали разорвется!
Пойду к батюшке на удаль горько плакаться,
Пойду к матушке на силу в ноги кланяться...
А.К. Толстой написал драму из новгородской истории «Посадник», а в
Поет и на гуслях играет Садко,
Поет про царя водяного;
Как было там жить у него нелегко
И как уж он пляшет здорово;
Поет про поход без утайки про свой,
Какая чему была чередь —
Качают в сомнении все головой,
Не могут рассказу поверить.
В XVIII веке Новгород становится промежуточным пунктом на главном тракте страны, соединявшем две столицы, и миновать его никто из путешественников просто не мог. И первым, кто подробно описал «Путешествие из Петербурга в Москву», оказался писатель, поэт и философ А.Н. Радищев (1749–1802), и именно его впечатления и размышления о Новгороде, различных местах новгородской губернии на неблизком пути составили основу опального произведения, за которое писатель был приговорен сначала к смертной казни, а потом сослан в Сибирь. Радищев одним из первых открыто поднял на щит «новгородскую вольность» как пример особой системы власти на Руси: «Новгород имел народное правление. Хотя у них были князья, но имели мало власти... Народ в собрании своем на вече был истинный государь».
На главной дороге страны — петербургском тракте с заездами в Новгород часто бывал и замечательный поэт и государственный деятель Г.Р. Державин
Именно богатейшая история и вольный дух Великого Новгорода сильнее всего привлекали к себе внимание русских поэтов. Показательно, что этот интерес возрос в 1820е годы, в самый первый период Золотого века русской поэзии, дышавшего свободой. Вольный, трудолюбивый и овеянный культурой Новгород виделся тогда многим идеалом общественного устройства, который пал под ударами «московского деспотизма». Одним из первых сказал об этом в стихотворении «Новград» будущий славянофил А.С. Хомяков
Средь опустенья и развалин,
Над быстрой волховской струей,
Лежит он мрачен и печален,
К земле приникнув головой.
Обнажены власы седые;
Совлечены с могучих плеч
Доспехи грозные, стальные,
И сокрушен булатный меч...
Тебя ли зрю, любимец славы?
Веков минувших мощный сын,
Племен властитель величавый,
России древний исполин?
Вскоре, в 1826 году, о той же трагедии утраты свободы в стихотворении «Новгород» писал юный и талантливый Д.В. Веневитинов
Ты ль предо мной, о древний град
Свободы, славы и торговли!
Как живо сердцу говорят
Холмы разбросанных обломков!
Не смолкли в них твои дела,
И слава предков перешла
В уста правдивые потомков!..
Везде былого свежий след!
Века прошли... но их полет
Промчался здесь, не разрушая.
«Ямщик! Где площадь вечевая?»
— «Прозванья этого здесь нет...»
— «Как нет?» — «А, площадь? Недалёко:
За этой улицей широкой! —
Вот площадь! Видишь шесть столбов?
По сказкам наших стариков,
На сих столбах висел когда-то
Огромный колокол! — но он
Давно отсюда увезен!..»
Слушая слова ямщика, герой стихотворения Веневитинова возражает ему: «Молчи, мой друг; здесь место свято: / Здесь воздух чище и вольней!..», а потом обращается уже к самому городу:
О Новград! В вековой одежде
Ты предо мной, как в седине,
Бессмертных витязей ровесник!
Твой прах гласит, как бдящий вестник,
О непробудной старине! —
Ответствуй, город величавый:
Где времена цветущей славы,
Когда твой голос, бич князей,
Звуча здесь медью в бурном вече,
К суду или к кровавой сече
Сзывал послушных сыновей?..
Скажи, где эти времена???
— Они далёко! Ах, далёко!..
Вслед за своим другом Веневитиновым к истории Новгорода, хотя и вскользь, обратился и великий А.С. Пушкин
У податливых крестьянок
(Чем и славится Валдай)
К чаю накупи баранок
И скорее поезжай, —
советовал он своему другу С.А. Соболевскому. В «Отрывках из путешествия Онегина» Пушкин, как умел только он, лишь в 10 строках умудрился описать историю Новгорода от «скандинава» Рюрика до «грозных Иоаннов»:
Он собрался, и, слава Богу,
Июня третьего числа
Коляска лёгкая в дорогу
Его по почте понесла.
Среди равнины полудикой
Он видит Новгород Великой.
Смирились площади: средь них
Мятежный колокол утих.
Но бродят тени великанов:
Завоеватель скандинав,
Законодатель Ярослав
С четою грозных Иоанов;
И вкруг поникнувших церквей
Кипит народ минувших дней.
Подчеркнем, что Пушкина связывало с Новгородом кровное родство по отцовской линии: его предком был сподвижник Александра Невского боярин Гаврила Алексич, геройски проявивший себя в битве 1240 года и похороненный в Новгороде в храме Михаила Архангела. Пушкина всегда интересовала новгородская история, «эпоху Великого Новгорода» он называл золотым веком в судьбе России. В юности под впечатлением от повести В.А. Жуковского «Вадим Новгородский», посвященной словенскому князю Вадиму по прозвищу Храбрый, выступившему против Рюрика, Пушкин задумал поэтическую драму «Вадим», но не смог ее закончить. Кроме того на основе «Сказания о путешествии новгородского архиепископа Иоанна на бесе в Иерусалим» поэт хотел написать поэму «Монах», но опять не исполнил задуманного, подарив выстраданный сюжет Гоголю, который перенес его на кузнеца Вакулу, оседлавшего черта и улетевшего в Петербург.
Глубже и пространнее всех к истории Новгорода обращался в 1830–1832 годах М.Ю. Лермонтов, не только несколько раз посещавший город, но и служивший полтора месяца в 1838 году в Селищах, в пятидесяти километрах от Новгорода, в лейб-гвардии Гродненском гусарском полку. «Еду в Новгород, в великий Новгород, в ужасный Новгород», — писал он сначала о своем путешествии, не желая удаляться в глушь, но потом сумел оценить красоты новгородского края и сблизился со своими сослуживцами.
В своей поэтической повести «Последний сын вольности» Лермонтов обратился к эпохе «дерзостного варяга» Рюрика, который, по мнению поэты, узурпировал власть, и только «последний вольный славянин» князь Вадим вышел с ним на бой «за милый край», «не размышляя пролил кровь», и погиб. Фактически Лермонтов, хотя и частично, выполнил задумку Пушкина на ту же тему.
Лермонтову принадлежат прекрасные строки, описывающие красоты осеннего Ильменя с золоченными «венцами дубов», с прижатой к земле «травой полей», с «рожденным на льдинах» ветром, качающим «сухой шиповник на брегах Ильменя», с «густым новогородским дымом» на закате и с «летучим парусом рыбака над волнами славянских рек»:
...В сизых облаках
Станицы белых журавлей
Летят на юг до лучших дней;
И чайки озера кричат
Им вслед, и вьются над водой,
И звезды ночью не блестят,
Одетые сырою мглой.
И жаль, что все эти картины соседствуют с упадком новгородской свободы:
Увы! Пред властию чужой
Склонилась гордая страна,
И песня вольности святой
(Какая б ни была она)
Уже забвенью предана.
В 1830 году Лермонтов в стихотворении «Новгород» вспоминал об испытаниях «бедного града», но верил, что тирании придет конец:
Сыны снегов, сыны славян,
Зачем вы мужеством упали?
Зачем?.. Погибнет ваш тиран,
Как все тираны погибали!
До наших дней при имени свободы
Трепещет ваше сердце и кипит!..
А в 1832 году Лермонтов написал непревзойденный гимн Вольному Новгороду (напомним, что ему тогда было всего лишь 18 лет):
Приветствую тебя, воинственных славян
Святая колыбель! Пришлец из чуждых стран,
С восторгом я взирал на сумрачные стены,
Через которые столетий перемены
Безвредно протекли; где вольности одной
Служил тот колокол на башне вечевой,
Который отзвонил ее уничтоженье
И сколько гордых душ увлек в свое паденье!..
— Скажи мне, Новгород, ужель их больше нет?
Ужели Волхов твой не Волхов прежних лет?
Напомним, что на величественном памятнике «Тысячелетие России» в Новгороде по праву расположены фигуры и Пушкина, и Лермонтова, и Грибоедова, который тоже не раз посещал город на Волхове и видел в нем образец общественного устройства.
Новгородскую тему продолжил в русской поэзии А.И. Одоевский
«Пусть идет на вольный Новгород
Вся могучая Москва:
Наших сил она отведает!
Вече воями шумит
И горит заморским золотом.
Крепки наши рамена,
А глава у нас — посадница,
Новгородская жена.
Много лет вдове Борецкого!
Слава Марфе! Много лет
С нами жить тебе, да здравствовать!»
А вот что Зосима прорицал про судьбу новгородских бояр:
«Скоро их замолкнут ликованья,
Сменит пир иные пированья,
Пированья в их гробах.
Трупы видел я безглавые,
Топора следы кровавые
Мне виднелись на челах...
Колокол на Вече призывающий!
Я услышу гул твой умирающий.
Не воскреснет он в веках.
Поднялась Москва Престольная,
И тебя, столица вольная,
Заметет развалин прах».
Напомним, что Одоевский в
Софии поглощает золото,
По стогнам посекает головы
Московский грозный царь.
Незваный гость приехал в Новгород,
К святой Софии в дом разрушенный
И там устроил торг.
Он ненасытен: на распутиях,
Вдоль берегов кручинных Волхова,
Во всех пяти концах,
Везде за бойней бойни строятся,
И человечье мясо режется
Для грозного царя...
Как видим, именно драматические вехи новгородской истории долгое время оказывались в центре внимания поэтов. Эту же тенденцию поддержал в 1840 году почти забытый сегодня поэт Л.А. Мей
«Ты прости, родимый Новгород!
Не сзывать тебя на вече мне,
Не гудеть уж мне по-прежнему:
Кто на Бога? кто на Новгород?
Вы ростите, храмы Божии,
Темема мои дубовые!
Я пою для вас в последний раз,
Издаю для вас прощальный звон».
Почти то же самое настроение выразил в стихотворении «Новгород» (1839) тоже забытый ныне поэт Э.И. Губер
Время пролетело,
Слава прожита;
Вече онемело,
Сила отнята.
Город воли дикой,
Город буйных сил,
Новгород Великий
Тихо опочил.
Подоплека всех упомянутых выше стихов понятна, но не слишком ли они были унылы и безысходны, могло показаться, что самого Великого Новгорода тогда уже не существовало, что он исчез в пучине времени, как и вечевой колокол. Но город продолжал жить, хотя и утерял свое былое величие и влияние. И, конечно, жители города не «зацикливались» тогда, как и сегодня, только на исторических драмах прошлого. Должно было пройти время, чтобы Новгород получил свое новое поэтическое прочтение, приближенное к обычной жизни людей, к природе, к очарованию его памятниками и святынями.
Однако это придет только в ХХ веке, ведь с начала 1840х годов Новгород вдруг исчезает из поля поэтического внимания. Как ни странно, но многие поэты, посещавшие город, как будто набрали в рот воды. Даже Н.А. Некрасов
Покинул я противную столицу
И вновь поля родные увидал.
Я посещал Париж, Неаполь, Ниццу,
Но я нигде так сладко не дышал.
Первой провозвестницей нового взгляда на Великий Новгород стала Анна Ахматова
И поэтому совсем не случайно в 1916 году Ахматова написала свои известные стихотворные строки о «капельке новогородской крови», признавшись в любви к древней стороне:
Приду туда, и отлетит томленье.
Мне ранние приятны холода.
Таинственные, темные селенья —
Хранилища молитвы и труда.
Спокойной и уверенной любови
Не превозмочь мне к этой стороне:
Ведь капелька новогородской крови
Во мне — как льдинка в пенистом вине.
И этого никак нельзя поправить,
Не растопил ее великий зной,
И что бы я ни начинала славить —
Ты, тихая, сияешь предо мной.
Здесь уже звучит любовь к новгородскому краю, в которой история если и присутствует, то лишь как внешняя оболочка, красивое обрамление современной жизни. С этих пор стихи о Новгороде, хотя и будут содержать приметы истории, но не будут ими ограничиваться, как вот в этом, тоже хрестоматийном, стихе (1914) Анны Ахматовой о красотах новгородской природы:
Пустых небес прозрачное стекло,
Большой тюрьмы белесое строенье
И хода крестного торжественное пенье
Над Волховом, синеющим светло.
Сентябрьский вихрь, листы с берёзы свеяв,
Кричит и мечется среди ветвей,
А город помнит о судьбе своей:
Здесь Марфа правила и правил Аракчеев.
В том же 1914 году, в самом начале Первой мировой войны, романтическую балладу «Марфа-посадница» написал С.А. Есенин
А и минуло теперь четыреста лет.
Не пора ли нам, ребята, взяться за ум,
Исполнить святой Марфин завет:
Заглушить удалью московский шум?
А пойдемте, бойцы, ловить кречетов,
Отошлем дикомытя с потребою царю:
Чтобы дал нам царь ответ в сечи той,
Чтоб не застил он новоградскую зарю.
Ты шуми, певунный Волохов, шуми,
Разбуди Садко с Буслаем на-торгаш!
Выше, выше, вихорь, тучи подыми!
Ой ты, Новгород, родимый наш!..
Пропоем мы Богу с ветрами тропарь,
Вспеним белую попончу,
Загудит наш с веча колокол, как встарь,
Тут я, ребята, и покончу.
В этих строках звучит и предчувствие революции, и надежда на возвращение величия города на Волхове, и трепетное отношение к городу, который стал для поэта «родимым». Ахматовскую и есенинскую линию поэзии о Новгороде продолжил интересный и оригинальный поэт, в юности акмеист, последователь Н.С. Гумилева Всеволод Александрович Рождественский
Восход сквозь тучи ветровые
Разлился алой олосой,
И новгородская София
Встает в туманах над рекой.
Еще Детинца тусклы ризы,
Но даль квозиста и пуста.
София — голубь мутносизый —
В лазурных лужах пролита.
А это строки Рождественского о вершинах новгородского зодчества:
Когда я с изумлением смотрю
На эти древнерусские соборы,
Я вижу с них, подобно звонарю,
Родных лесов и пажитей просторы.
Не чад кадил, не слепоту сердец,
Взалкавших недоступного им рая,
А творчества слепительный венец,
Вознесшегося, время попирая.
Великий Новгород и древний Псков —
Нас от врага спасавшие твердыни —
Вот что в искусстве старых мастеров
Пленяет нас и радует поныне.
Был точен глаз их, воля их крепка,
Был красоты полет в дерзаньях отчих.
Они умели строить на века.
Благословим же труд безвестных зодчих!
Рождественский в годину Отечественной войны с болью в сердце переживал за судьбу оккупированного нацистами Господина Великого Новгорода, чье «вечевое сердце всей России / Набатом пело в каменной груди». Но он верил в то, что это сердце вновь оживет и забьется:
Оно молчит, у свастики в неволе,
Спит город — без единого огня.
Но недалеко в мутном вьюжном поле
Какой-то гул доходит до меня.
То колокола пленное гуденье
Там, в теплой глубине родной земли.
Он нас зовет, он молит о спасеньи,
Торопит нас, чтоб мы скорей пришли.
И час настал. В развалинах и дыме
Враг опрокинут танковой волной.
Возносит вновь над стенами крутыми
София купол черный и сквозной.
20 января 2019 года исполняется 75 лет со дня освобождения Новгорода, и почти полностью разрушенный в войну город уже давно залечил раны, воссоздав свой исторический облик. И мне посчастливилось наблюдать, как восстанавливался и рос мой родной город:
Очищается душа морозцем,
И метель шальная — нипочём...
Я не зря родился новгородцем,
Став потом случайно москвичом.
Мне дарили северные ветры
Откровенье ильменской волны,
А сугробов колыбельных метры
Согревали песней тишины...
Купола Софии рукотворной
Различал с любой я стороны,
А у вечного огня повторно
Слышал эхо горестной войны.
Родившись в 1959 году, в год 1100летия Новгорода, и прожив в нем 18 лет, я впитал в себя поэтическое вдохновение новгородской земли и продолжил, как смог, воспевать в своих стихотворениях Великий Новгород:
Впитал я северных просторов
Никем не мереный размах
И смысл, таящийся в снегах,
И блеск на древних куполах,
И стойкость крепких поозёров.
Я в Ильмень с Волховом седым
Не раз восторженно вливался,
Когда с ребятами купался
Там, где когда-то появлялся
Отечества первичный дым.
Проект «Поэтические места России» — ruspoetry.ru — и был задуман для того, чтобы собрать в нем воедино мозаику русской поэзии о городах и весях нашей страны. И мне приятно сознавать, что в нем представлен и мой поэтический цикл о Великом Новгороде, включающий в себя более 20 стихотворений. Надеюсь, что с помощью пользователей сайта коллекция поэзии, посвященной городу на Волхове, будет в дальнейшем пополняться.
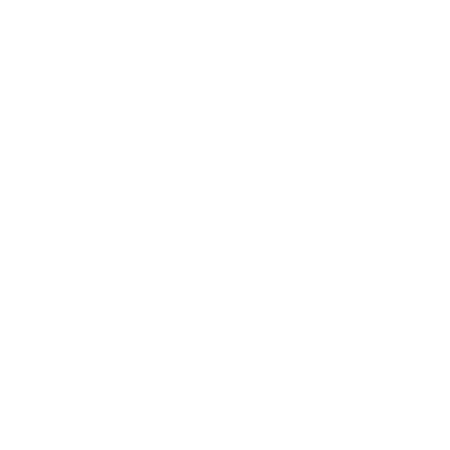 Яндекс.Дзен
Яндекс.Дзен



