
Мандельштам Осип Эмильевич
(1891 — 1938)Ведь известно и множество раз говорено, что у прошлого в жизнях людей, как и у истории, нет никаких сослагательных «бы» — «вот если бы», то «тогда бы». Но так хочется применить эту формулу для биографии поэта, прозаика, переводчика, эссеиста, критика, литературоведа, одного из крупнейших русских поэтов XX века, как представляют Осипа Мандельштама учебники и книги. Вот остался бы себе в Сорбонне там или в Гейдельбергском университете , где он учился в
Впервые Мандельштам напечатал свои стихи в журнале «Аполлон» в 1910 году, позже поэтические поиски отразит дебютная книга стихов «Камень» (три издания: 1913, 1916 и 1923 годов). Он постоянно находится в центре поэтической жизни, регулярно публично читает стихи, бывает в «Бродячей собаке», в 1915 году в Коктебеле знакомится с Анастасией и Мариной Цветаевыми, а сильное сближение с Мариной произошло в 1916 году. Их отношения станут одной из крупнейших драм XX века, где каждому отведено свое время и сценарий, а пока у Осипа Эмильевича впереди два десятилетия, за которые он успеет сделать свое имя великим в России. После Октябрьской революции он работает в газетах, в Наркомпросе, ездит по стране, публикуется, выступает со стихами, обретает успех. Стихи времен Первой мировой войны и революции
В 1934 году Мандельштама арестовывают и отправляют в ссылку в Чердынь (Пермский край), потом разрешают выбрать место для поселения — это будет Воронеж. Поэт с женой живут в нищете, изредка им помогают деньгами немногие неотступившиеся друзья, время от времени Осип Эмильевич подрабатывает в местной газете и в театре. Здесь он пишет знаменитый цикл стихотворений «Воронежские тетради». В мае 1937 года заканчивается срок ссылки, поэт неожиданно получает разрешение выехать из Воронежа, и он с женой возвращается ненадолго в Москву. Не самый светлый для России год прошлого века, и уже в марте 1938 года, когда супруги Мандельштам переехали в профсоюзную здравницу Саматиха (Егорьевский район Московской области, ныне Шатурский район), то там же Осип Эмильевич был арестован вторично и доставлен на железнодорожную станцию Черусти, которая находилась в 25 километрах от Саматихи. Оттуда его препроводили во Внутреннюю тюрьму НКВД, после быстро перевели в Бутырскую тюрьму, где он получил в результате приговор на пять лет в исправительно-трудовом лагере и осенью 1938 года отправлен этапом на Дальний Восток. Погиб в декабре в пересылочном лагере. Могилой его стал, по догадкам исследователей, старый крепостной ров вдоль речки Саперки, ныне в городской черте Владивостока, куда после зимы в подобие братской могилы сбрасывали «штабеля» смерзшихся тел узников. Для героя пьеса закончилась.
Когда узнаешь судьбу и жизнь Осипа Мандельштама, то возникает ощущение прозрачности, ясности его жизни, как будто он вступил в нее, заранее зная итог и соглашаясь на все, что должно случиться. Ну просто потому, что невозможно было иначе — слишком открыт, по-детски доверчив и наивно непрактичен был этот мальчик из семьи привыкшего к терпению народа, который при этом своем непротивлении жизненным ударам сумел стать символом и частью самой элитной и значимой части российской поэзии.




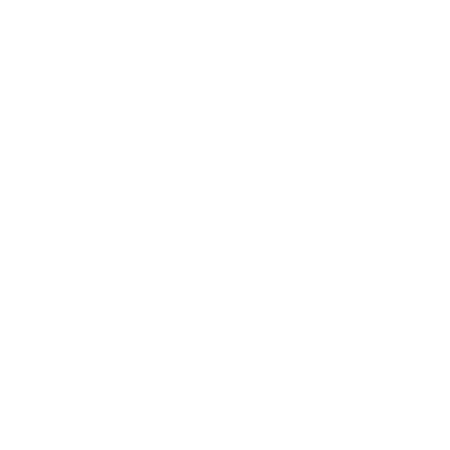 Яндекс.Дзен
Яндекс.Дзен



