Рубрук в Монголии
НАЧАЛО ПУТЕШЕСТВИЯ
Мне вспоминается доныне,
Как с небольшой командой слуг.
Блуждая в северной пустыне,
Въезжал в Монголию Рубрук.
«Вернись, Рубрук!» — кричали птицы
«Очнись, Рубрук! — скрипела ель. —
Слепил мороз твои ресницы,
Сковала бороду метель.
Тебе ль, монах, идти к монголам
По гребням голым, по степям,
По разоренным этим селам,
По непроложенным путям?
И что тебе, по сути дела,
До измышлений короля?
Ужели вправду надоела
Тебе французская земля?
Небось в покоях Людовика
Теперь и пышно и тепло,
А тут лишь ветер воет дико
С татарской саблей наголо.
Тут ни тропинки, ни дороги,
Ни городов, ни деревень,
Одни лишь Гоги да Магоги
В овчинных шапках набекрень!»
А он сквозь Русь спешил упрямо,
Через пожарища и тьму,
И перед ним вставала драма
Народа, чуждого ему.
В те дни, по милости Батыев,
Ладони выев до костей,
Еще дымился древний Киев
У ног непрошеных гостей.
Не стало больше песен дивных,
Лежал в гробнице Ярослав,
И замолчали девы в гривнах,
Последний танец отплясав.
И только волки да лисицы
На диком празднестве своем
Весь день бродили по столице
И тяжелели с каждым днем.
А он, минуя все берлоги,
Уже скакал через Итиль
Туда, где Гоги и Магоги
Стада упрятали в ковыль.
Туда, к потомкам Чингисхана,
Под сень неведомых шатров,
В чертог восточного тумана,
В селенье северных ветров!
ДОРОГА ЧИНГИСХАНА
Он гнал коня от яма к яму,
И жизнь от яма к яму шла
И раскрывала панораму
Земель, обугленных дотла.
В глуши восточных территорий,
Где ветер бил в лицо и грудь,
Как первобытный крематорий,
Еще пылал Чингисов путь.
Еще дымились цитадели
Из бревен рубленных капелл,
Еще раскачивали ели
Останки вывешенных тел.
Еще на выжженных полянах,
Вблизи низинных родников
Виднелись груды трупов странных
Из-под сугробов и снегов.
Рубрук слезал с коня и часто
Рассматривал издалека,
Как, скрючив пальцы, из-под наста
Торчала мертвая рука.
С утра не пивши и не евши,
Прислушивался, как вверху
Визгливо вскрикивали векши
В своем серебряном меху.
Как птиц тяжелых эскадрильи,
Справляя смертную кадриль,
Кругами в воздухе кружили
И простирались на сто миль.
Но, невзирая на молебен
В крови купающихся птиц,
Как был досель великолепен
Тот край, не знающий границ!
Европа сжалась до предела
И превратилась в островок,
Лежащий где-то возле тела
Лесов, пожарищ и берлог.
Так вот она, страна уныний,
Гиперборейский интернат,
В котором видел древний Плиний
Жерло, простершееся в ад!
Так вот он, дом чужих народов
Без прозвищ, кличек и имен,
Стрелков, бродяг и скотоводов,
Владык без тронов и корон!
Попарно связанные лыком,
Под караулом, там и тут
До сей поры в смятенье диком
Они в Монголию бредут.
Широкоскулы, низки ростом,
Они бредут из этих стран,
И кровь течет по их коростам,
И слезы падают в туман.
ДВИЖУЩИЕСЯ ПОВОЗКИ МОНГОЛОВ
Навстречу гостю, в зной и в холод,
Громадой движущихся тел
Многоколесный ехал город
И всеми втулками скрипел.
Когда бы дьяволы играли
На скрипках лиственниц и лип,
Они подобной вакханальи
Сыграть, наверно, не смогли б.
В жужжанье втулок и повозок
Врывалось ржанье лошадей,
И это тоже был набросок
Шестой симфонии чертей.
Орда — неважный композитор,
Но из ордынских партитур
Монгольский выбрал экспедитор
С-dur на скрипках бычьих шкур.
Смычком ему был бич отличный,
Виолончелью бычий бок,
И сам он в позе эксцентричной
Сидел в повозке, словно бог.
Но богом был он в высшем смысле,
В том смысле, видимо, в каком
Скрипач свои выводит мысли
Смычком, попав на ипподром.
С утра натрескавшись кумыса,
Он ясно видел все вокруг —
То из-под ног мотнется крыса,
То юркнет в норку бурундук,
То стрепет, острою стрелою,
На землю падает, подбит,
И дико движет головою,
Дополнив общий колорит.
Сегодня возчик, завтра воин,
А послезавтра божий дух,
Монгол и вправду был достоин
И жить, и пить, и есть за двух.
Сражаться, драться и жениться
На двух, на трех, на четырех —
Всю жизнь и воин и возница,
А не лентяй и пустобрех.
Ему нельзя ни выть, ни охать
Коль он в гостях у росомах,
Забудет прихоть он и похоть,
Коль он охотник и галах.
В родной стране, где по излукам
Текут Онон и Керулен,
Он бродит с палицей и луком,
В цветах и травах до колен.
Но лишь ударит голос меди —
Пригнувшись к гриве скакуна,
Летит он к счастью и победе
И чашу битвы пьет до дна.
Глядишь — и Русь пощады просит,
Глядишь — и Венгрия горит,
Китай шелка ему подносит,
Париж баллады говорит.
И даже вымершие гунны
Из погребенья своего,
Как закатившиеся луны,
С испугом смотрят на него!
МОНГОЛЬСКИЕ ЖЕНЩИНЫ
Здесь у повозок выли волки,
И у бесчисленных станиц
Пасли скуластые монголки
Своих могучих кобылиц.
На этих бешеных кобылах,
В штанах из выделанных кож,
Судьбу гостей своих унылых
Они не ставили ни в грош.
Они из пыли, словно пули,
Летели в стойбище свое
И, став ли боком, на скаку ли,
Метали дротик и копье.
Был этих дам суров обычай,
Они не чтили женский хлам
И свой кафтан из кожи бычьей
С грехом носили пополам.
Всю жизнь свою тяжелодумки,
Как в этом принято краю,
Они в простой таскали сумке
Поклажу дамскую свою.
Но средь бесформенных иголок
Здесь можно было отыскать
Искусства древнего осколок
Такой, что моднице под стать.
Литые серьги из Дамаска,
Запястья хеттских мастеров,
И то, чем красилась кавказка,
И то, чем славился Ростов.
Все то, что было взято с бою,
Что было снято с мертвеца,
Свыкалось с модницей такою
И ей служило до конца.
С глубоко спрятанной ухмылкой
Глядел на всадницу Рубрук,
Но вникнуть в суть красотки пылкой
Монаху было недосуг.
Лишь иногда, в потемках лежа,
Не ставил он себе во грех
Воображать, на что похожа
Она в постели без помех.
Но как ни шло воображенье,
Была работа свыше сил,
И, вспомнив про свое служенье,
Монах усилья прекратил.
ЧЕМ ЖИЛ КАРАКОРУМ
В те дни состав народов мира
Был перепутан и измят,
И был ему за командира
Незримый миру азиат.
От Танаида до Итили
Коман, хозар и печенег
Таких могил нагородили,
Каких не видел человек.
В лесах за Русью горемычной
Ютились мокша и мордва,
Пытаясь в битве необычной
Свои отстаивать права.
На юге — персы и аланы,
К востоку — прадеды бурят,
Те, что, ударив в барабаны,
«Ом, мани падме кум!» — твердят.
Уйгуры, венгры и башкиры,
Страна китаев, где врачи
Из трав готовят эликсиры
И звезды меряют в ночи.
Из тундры северные гости,
Те, что проносятся стремглав,
Отполированные кости
К своим подошвам привязав.
Весь этот мир живых созданий.
Людей, племен и целых стран
Платил и подати и дани,
Как предназначил Чингисхан.
Живи и здравствуй, Каракорум,
Оплот и первенец земли,
Чертог Монголии, в котором
Нашли могилу короли!
Где перед каменной палатой
Был вылит дуб из серебра
И наверху трубач крылатый
Трубил, работая с утра!
Где хан, воссев на пьедестале,
Смотрел, как буйно и легко
Четыре тигра изрыгали
В бассейн кобылье молоко!
Наполнив грузную утробу
И сбросив тяжесть портупей,
Смотрел здесь волком на Европу
Генералиссимус степей.
Его бесчисленные орды
Сновали, выдвинув полки,
И были к западу простерты,
Как пятерня его руки.
Весь мир дышал его гортанью,
И власти подлинный секрет
Он получил по предсказанью
На восемнадцать долгих лет.
КАК БЫЛО ТРУДНО
РАЗГОВАРИВАТЬ С МОНГОЛАМИ
Еще не клеились беседы,
И с переводчиком пока
Сопровождала их обеды
Игра на гранях языка.
Трепать язык умеет всякий,
Но надо так трепать язык,
Чтоб щи не путать с кулебякой
И с запятыми закавык.
Однако этот переводчик,
Определившись толмачом,
По сути дела был наводчик
С железной фомкой и ключом.
Своей коллекцией отмычек
Он колдовал и вкривь и вкось
И в силу действия привычек
Плел то, что под руку пришлось.
Прищурив умные гляделки,
Сидели воины в тени,
И, явно не в своей тарелке,
Рубрука слушали они.
Не то чтоб сложной их натуры
Не понимал совсем монах, —
Здесь пели две клавиатуры
На двух различных языках.
Порой хитер, порой наивен.
С мотивом спорил здесь мотив,
И был отнюдь не примитивен
Монгольских воинов актив.
Здесь был особой жизни опыт,
Особый дух, особый тон.
Здесь речь была как конский топот,
Как стук мечей, как копий звон.
В ней водопады клокотали,
Подобно реву Ангары,
И часто мелкие детали
Приобретали роль горы.
Куда уж было тут латынцу,
Будь он и тонкий дипломат,
Псалмы втолковывать ордынцу
И бить в кимвалы наугад!
Как прототип башибузука,
Любой монгольский мальчуган
Всю казуистику Рубрука,
Смеясь, засовывал в карман.
Он до последний капли мозга
Был практик, он просил еды,
Хотя, по сути дела, розга
Ему б не сделала беды.
РУБРУК НАБЛЮДАЕТ
НЕБЕСНЫЕ СВЕТИЛА
С началом зимнего сезона
В гигантский вытянувшись рост,
Предстал Рубруку с небосклона
Амфитеатр восточных звезд.
В садах Прованса и Луары
Едва ли видели когда,
Какие звездные отары
Вращает в небе Кол-звезда.
Она горит на всю округу,
Как скотоводом вбитый кол,
И водит медленно по кругу
Созвездий пестрый ореол.
Идут небесные Бараны,
Шагают Кони и Быки,
Пылают звездные Колчаны,
Блестят астральные Клинки.
Там тот же бой и стужа та же,
Там тот же общий интерес.
Земля — лишь клок небес и даже,
Быть может, лучший клок небес.
И вот уж чудится Рубруку;
Свисают с неба сотни рук,
Грозят, светясь на всю округу:
«Смотри, Рубрук! Смотри, Рубрук!
Ведь если бог монголу нужен,
То лишь постольку, милый мой,
Поскольку он готовит ужин
Или быков ведет домой.
Твой бог пригоден здесь постильку,
Поскольку может он помочь
Схватить венгерку или польку
И в глушь Сибири уволочь.
Поскольку он податель мяса,
Поскольку он творец еды!
Другого бога-свистопляса
Сюда не пустят без нужды.
И пусть хоть лопнет папа в Риме,
Пускай напишет сотни булл, —
Над декретальями твоими
Лишь посмеется Вельзевул.
Он тут не смыслит ни бельмеса
В предначертаниях небес,
И католическая месса
В его не входит интерес».
Идут небесные Бараны,
Плывут астральные Ковши,
Пылают реки, горы, страны,
Дворцы, кибитки, шалаши.
Ревет медведь в своей берлоге,
Кричит стервятница-лиса,
Приходят боги, гибнут боги,
Но вечно светят небеса!
КАК РУБРУК ПРОСТИЛСЯ С МОНГОЛИЕЙ
Срывалось дело минорита,
И вскоре выяснил Рубрук,
Что мало толку от визита.
Коль дело валится из рук.
Как ни пытался божью манну
Он перед ханом рассыпать,
К предусмотрительному хану
Не шла Господня благодать.
Рубрук был толст и крупен ростом,
Но по природе не бахвал,
И хан его простым прохвостом,
Как видно, тоже не считал.
Но на святые экивоки
Он отвечал: «Послушай, франк!
И мы ведь тоже на Востоке
Возводим Бога в высший ранг.
Однако путь у нас различен.
Ведь вы, Писанье получив,
Не обошлись без зуботычин
И не сплотились в коллектив.
Вы рады бить друг друга в морды,
Кресты имея на груди.
А ты взгляни на наши орды,
На наших братьев погляди?
У нас, монголов, дисциплина,
Убил — и сам иди под меч.
Выходит, ваша писанина
Не та, чтоб выгоду извлечь!»
Тут дали страннику кумысу
И, по законам этих мест,
Безотлагательную визу
Сфабриковали на отъезд.
А между тем вокруг становья,
Вблизи походного дворца
Трубили хану славословья
Несториане без конца.
Живали муллы тут и ламы,
Шаманы множества племен.
И снисходительные дамы
К ним приходили на поклон.
Тут даже диспуты бывали,
И хан, присутствуя на них,
Любил смотреть, как те канальи
Кумыс хлестали за двоих.
Монаха здесь, по крайней мере,
Могли позвать на арбитраж,
Но музыкант ему у двери
Уже играл прощальный марш.
Он в ящик бил четырехструнный,
Он пел и вглядывался в даль,
Где серп прорезывался лунный,
Литой, как выгнутая сталь.


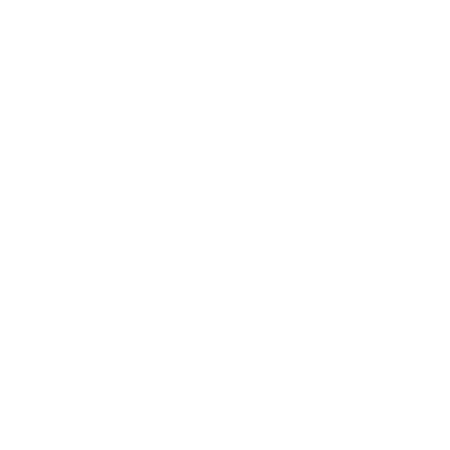 Яндекс.Дзен
Яндекс.Дзен



