
Заболоцкий Николай Алексеевич
(1903 — 1958)Самородок — это слово всегда имело уважительный, значительный смысл на Руси. Вот добыли горы руды, там ее еще просеивать и старательно выцеживать что-то ценное, а тут вдруг в этой горе радостно заблестел, засверкал самоцветный, драгоценный своей уникальностью камень. А то вот стояла в неведомой дальности от не самой близкой к центрам империи Казани ферма Казанского губернского земства, в непосредственной близости от Кизической слободы Каймарской волости Казанского уезда Казанской губернии, а на ней возьми и родись в семье агронома и сельской учительницы мальчик, который начал поражать всех своей творческой активностью, стремлениями к знаниям и способностями все это реализовать. Детство Заболоцкого прошло в Кизической слободе близ Казани и в селе Сернур Уржумского уезда Вятской губернии (сейчас Республика Марий Эл), где уже с начальных классов сельской школы Николай начал «издавать» свой рукописный журнал и помещал там собственные стихи. С 1913 года по
Но вокруг поэта — обстановка последних лет НЭПа, и сатирическое изображение этого периода стало темой ранних стихов, которые составили его первую поэтическую книгу — «Столбцы». В 1929 году она вышла в свет в Ленинграде и сразу вызвала литературный скандал — автора обвиняли в юродствовании над коллективизацией, расценивали книгу как «враждебную вылазку». Но увлеченный уржумский самородок тревожного звоночка от окружающих индивидуумов не расслышал или просто не придал значения. Было не до того. Творец уже блестит всеми гранями собственной натурфилософской концепции, в основе которой — представление о мироздании как единой системе, объединяющей живые и неживые формы материи, находящиеся в вечном взаимодействии и взаимопревращении. И именно человек призван взять на себя заботу о преобразовании природы, но в своей деятельности он должен видеть в природе не только ученицу, но и учительницу, ибо эта несовершенная и страдающая «вековечная давильня» заключает в себе прекрасный мир будущего и те мудрые законы, которыми следует руководствоваться.
До рокового в его жизни 1938 года еще есть время, и Николай его заполняет полностью. В 1931 году знакомится с работами ученого Циолковского, которые произвели на него неизгладимое впечатление. Потрясенный Заболоцкий писал: «...Ваши мысли о будущем Земли, человечества, животных и растений глубоко волнуют меня, и они очень близки мне. В моих ненапечатанных поэмах и стихах я, как мог, разрешал их». Продолжает трудиться над стихами, работает в благословенной детской литературе тех лет — журналах «Ёж» и «Чиж» 1930 годов, под кураторством Самуила Маршака. Многие его стихи получают одобрительные отзывы, выходит новая книга, и начато воплощение давно задуманного — поэтического переложения древнерусской поэмы «Слово о полку Игореве» и своей поэмы «Осада Козельска».
Ожидаемое и неизбежное при его взглядах и высказываниях случилось: в марте 1938 года его арестовали, пытали, морили голодом и бессоницей — очень нужно было доказать создание еще одной мифической контрреволюционной организации, умник из Уржума с его попыткой противопоставить личность человека стройным лозунгам пролетарских пятилеток очень подходил под отведенную ему роль. А он все это время издевательств беспокоился о главном: «...Сознание стало затуманиваться, и я все силы напрягал для того, чтобы отвечать разумно и не допустить какой-либо несправедливости в отношении тех людей, о которых меня спрашивали...» Назначенный срок наказания Заболоцкий отбывал с февраля 1939 года до мая 1943 года в системе Востоклага в районе Комсомольска-на-Амуре; затем в системе Алтайлага в Кулундинских степях. Вполне достаточно, чтобы, как многие и многие, навсегда остаться в какой-то безымянной могиле, но у мироздания на самородков, видимо, свои планы. И Николай Алексеевич еще получит свои годы славы и признания. С марта 1944 года после освобождения из лагеря жил в Караганде, там закончил начатое перед арестом переложение «Слова о полку Игореве», ставшее лучшим в ряду опытов многих русских поэтов. Это помогло в 1946 году добиться разрешения жить в Москве, и он снимал жилье в писательском поселке Переделкино. А в 1946 году Заболоцкого восстановили в Союзе писателей, и начался новый, московский период его творчества — несмотря на удары судьбы, поэт сумел вернуться к неосуществленным замыслам и воплощать их в сборниках стихов, которые опять будут выходить. И когда он писал о своем отношении к работе над переводом великого литературного памятника — «Слова о полку Игореве», то кажется, что писал о том самом идеале живого человека, который, по его теории, вместе с природой в ответе за жизнь всего сущего: «...я преисполнен величайшего благоговения, удивления и благодарности судьбе за то, что из глубины веков донесла она до нас это чудо. В пустыне веков, где камня на камне не осталось после войн, пожаров и лютого истребления, стоит этот одинокий, ни на что не похожий собор нашей древней славы... все в нем полно особой нежной дикости, иной, не нашей мерой измерил его художник. И как трогательно осыпались углы, сидят на них вороны, волки рыщут, а оно стоит — это загадочное здание, не зная равных себе, и будет стоять вовеки, доколе будет жива культура русская». Николай Заболоцкий свою долю в то, чтобы это «стояние» длилось, отдал целиком и полностью.

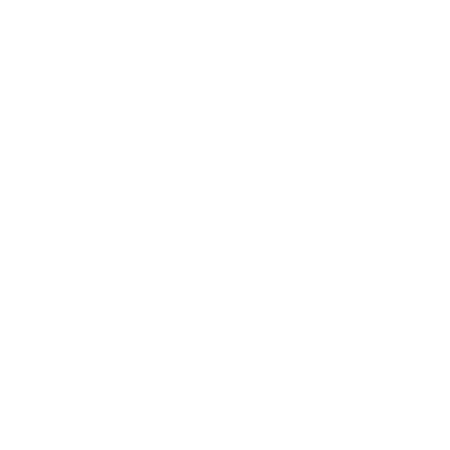 Яндекс.Дзен
Яндекс.Дзен



