
Цветаева Марина Ивановна
(1892 — 1941)Очень часто люди уверены, что все удачи и неудачи человеческой судьбы предопределены и прописаны в зависимости от расположения звезд, планет, стихий и капризов мироздания, и с этим трудно не согласиться. Ведь тысячи и тысячи известных литераторов плавно и без очень страшных потерь «перетекли» из одного века в другой, из одной политической власти в виде батюшки царя в совершенно новую, в виде вчерашнего холопа этого батюшки, и даже стихи и прозу по этому поводу сумели сложить. А кому-то перемены стали приговором, причем с отложенной и медленной казнью, когда все на разрыв, когда что ни шаг, то пропасть и смерть, что ни поворот, то в новые адские муки и дьявольские насмешки. А ведь как благополучно и красиво были обставлены детские годы: любящие родители, из которых мама — прекрасный музыкант, ученица знаменитого пианиста Рубинштейна, и учит дочь музыке, а папа — профессор Московского университета, известный филолог и искусствовед, ставший в дальнейшем директором Румянцевского музея и основателем Музея изящных искусств, учит любимую дочь античной мифологии и словесности, все вместе они учатся трем- четырем языкам, и в шесть лет свои первые стихи Марина вообще пишет на французском и немецком языках. В
С сентября 1906 года Цветаева начала учиться по очереди в нескольких московских гимназиях, но нигде не могла прижиться — ей ставили в вину то непослушание, то свободомыслие, по мнению педагогов. Стоит ли присматриваться в семье к настрою ученика в таких случаях или пускать все на самотек? Вряд ли папа — Цветаев — мог бы что-то изменить, даже если бы сумел в самых страшных снах увидеть последствия такого характера любимой дочери. Пока вопрос удается решать иным способом, нежели смирение и послушание: летом 1909 года Цветаева предприняла первую самостоятельную поездку за границу. В Париже она записалась на летний университетский курс по старофранцузской литературе.
А впереди посещение лекций и клубных собраний при издательстве московских символистов «Мусагет» с осени 1909 года, через год — собрания кружка «Молодой Мусагет», это очень расширило круг ее литературных знакомств, осенью 1910 года она за свой счет печатает первый сборник стихов — «Вечерний альбом», и ее творчество привлекает внимание знаменитых поэтов — Валерия Брюсова, Максимилиана Волошина и Николая Гумилева, а в конце 1910 года в Москве состоялось знакомство Цветаевой с самим поэтом Волошиным и начались ее ежегодные поездки в знаменитый волошинский «Дом поэтов» в Крыму, в Коктебеле. Там же, в Коктебеле, в мае 1911 года Цветаева познакомилась с Сергеем Эфроном, а уже на следующий год, в
Революция и Гражданская война принесли в ее семью разлуки, смерти и необходимость покинуть страну. В 1922 году Цветаева с дочерью выехала из Москвы в Ригу, будет жить потом в Праге, Берлине, Париже, но в нищете и тоске по родине, по прошлому, по возможности что-то изменить. Ее возвращение в 1939 году, как и следовало ожидать, закончилось катастрофой — она навсегда лишилась мужа и дочери, была выброшена из жизни и общества. Непослушание, свободомыслие, непохожесть оказались ее сутью, которую официальная власть и ее апологеты чувствовали моментально. И не прощали. Последние свои дни на родине поэт Цветаева жила на подмосковной даче в Болшеве, а после начала войны и эвакуации — в татарском городе Елабуге, на Каме, и получила прописку в соседнем городке Чистополе. Наверное, это уже было слишком, и тогда непослушание приняло страшную и трагическую форму, не сохранив для потомков даже могилы: «...легко обо мне подумай, легко обо мне забудь...» В последнем автор ошиблась — в памяти людей страны, которая обладает удивительной способностью уничтожать своих лучших граждан, поэтесса Марина Цветаева осталась навека.

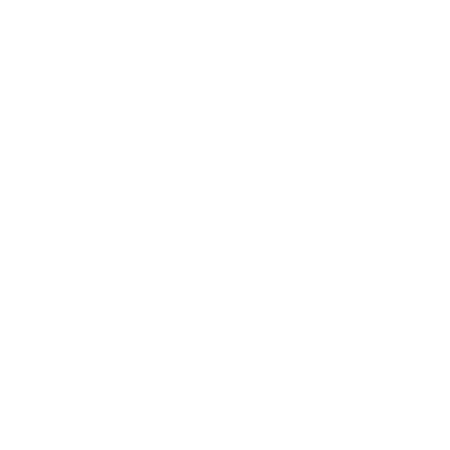 Яндекс.Дзен
Яндекс.Дзен



