
Старшинов Николай Константинович
(1924 — 1998)Авторы биографических заметок о Николае Константиновиче Старшинове одинаково сухи и лаконичны: родился в Москве, в Замоскворечье, в многодетной семье, в 1942 году призван в армию и стал курсантом 2 го Ленинградского военного пехотного училища. В начале 1943 года в звании старшего сержанта попал на передовую, в августе в боях под Спас-Деменском получил тяжелое ранение. Из армии демобилизовался в 1944 году и сразу же поступил в Литературный институт имени А.М. Горького, который окончил лишь в
И после этих цифр и сухих фактов так и хочется забежать с другой стороны Замоскворечья и приглянуться поближе к семье коренных москвичей с деревенскими корнями. Жили бедно, но все выучились, стали военными, учеными, инженерами, руководителями, а младший вот даже большим поэтом. Николай Константинович знал почему: «Каждый день после ужина за прибранным столом собиралась вся наша семья. И кто-то из старших братьев или сестра читали нам вслух стихи. Два, а то и три часа. Зато к четырнадцати-пятнадцати годам я очень неплохо знал русскую поэзию. Да и не только русскую. Пушкин, Лермонтов, Крылов, Кольцов, Некрасов, Тютчев, Фет, Никитин, Суриков, А.К. Толстой, Полонский, Апухтин, Бунин, Блок, Есенин, Маяковский и другие поэты с тех пор остались в моей памяти. А еще Лонгфелло, Беранже, Гейне и даже „Фауст“ Гёте».
Но первым серьезным и главным университетом для Николая станет война — в семнадцать лет, не успев даже сдать все экзамены, он встал в солдатский строй. Старший сержант, помощник командира пулеметного взвода — худенький замоскворецкий мальчишка с открытым, ясным и каким-то беззащитным взглядом. Один из многих, один из стольких. В августе 1943 года был тяжело ранен, обе ноги оказались перебиты, всю ночь полз к своим, волоча за собой винтовку и оставляя кровавый след. Чудом удалось избежать ампутации, но раны эти мучили до конца жизни. И, конечно, война отразилась в поэзии Старшинова, в его стихах нет особенного пафоса, как не бывало его никогда и в самом авторе, но есть подлинность чувства.
В Москву Старшинов вернулся в феврале 1944 года на костылях. Стал учиться в Литинституте, писал стихи, но с публикациями, а тем более с признанием, как поэта, все складывалось непросто. Его, как и некоторых других молодых, только входящих в литературу, обвиняли в «преувеличенной поэтизации автобиографических «мелочей жизни». «Мелочи», которые составили судьбу нескольких уничтоженных войной поколений, иногда критиковались, например, так: «В результате неправильно понятых „уроков войны“ мы наблюдаем порой своеобразный „неоимажинизм“, явление вреднейшее, глубоко чуждое нашей поэзии». Это дело обычное — еще не отгремели последние военные залпы, а отовсюду уже начали вылезать пересидевшие удачно лихолетье знатоки и говоруны-карьеристы, лучше всех знающие, как надо правильно «понимать уроки войны». Может, для того и хранила судьба парня с другого, непарадного берега Москвы-реки, чтобы смог он встать на защиту памяти и чести тех, кто уже не мог вернуться и что-то рассказать, да и тех, кто вернулся, но ненадолго — слишком другая жизнь после фронта и передовой началась в стране, приходилось ее запивать в рюмочных или просто на скамейках. И далеко не многим удалось преодолеть этот переходный барьер из войны в мирное и порой очень чужое бытие. А еще и для продолжения дела — преданного служения поэзии — Старшинов имел редкий дар учительства — ненавязчивый, уважительный и глубокий. И не перечесть имен поэтов, которые благодарны ему и за бескорыстную помощь, и просто за человеческое тепло. Критики тонко намекают, что он не самый гениальный поэт современности, а почитатели и ученики Николая Константиновича напоминают, что великий Пушкин памятник себе ставил не за свою гениальность, а за «милость к падшим». У поэта Старшинова за спиной остались миллионы других, кому нужна была защита их памяти, — «павших» и не вернувшихся с полей войны. Так что его чеканные, пронзительные строки о войне, любви, природе пришлись очень кстати. И остались с новыми поколениями, несмотря ни на что.


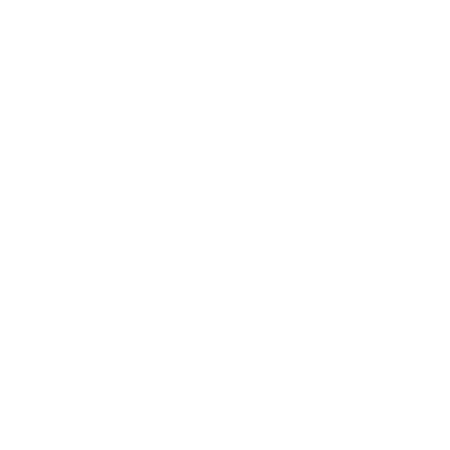 Яндекс.Дзен
Яндекс.Дзен



