
Саша Чёрный
(1880 — 1932)Его называют поэтом Серебряного века, прозаиком, журналистом, получившим широкую известность за авторство популярных лирико-сатирических стихотворных фельетонов. Об этом ли мечтал в детстве Александр Михайлович Гликберг, родившийся в городе Одессе Российской империи в семье провизора, представителя химической фирмы, и наследницы купеческой семьи? В ранней юности он скорее всего не очень думал о себе как о писателе, пытаясь избегать усидчивых занятий то в одной, то в другой гимназии, которые менялись при переезде из города Белая Церковь в Житомир и потом в Санкт-Петербург с 1890 по 1900 годы. Но при желании судьба расставляет знаки на жизненном пути. В жизни Александра в этом качестве чудесным образом будут фигурировать благородный опекун, помогавший мальчику устроиться на работу и поддерживавший его в появившемся желании писать и статьи в газету, и очерки, и стихи пока только для знакомых, а потом еще появится неожиданная фея, преданная возлюбленная, умеющая ввести начинающего писателя в круг петербургских ученых и философов — сама она была племянницей известного философа профессора Петербургского университета А. Введенского и дальней родственницей предпринимателя, знаменитого создателя магазинов Г. Елисеева.
А пока в 1900 году он призван на военную службу на два года, потом поживет в небольшом городке Новоселицы, где устроится работать таможенником на границе с Австро-Венгрией, но, поселившись в Житомире, начал сотрудничать с газетой «Волынский вестник», и уже в 1904 году было напечатано его первое стихотворное произведение «Дневник резонёра». Публику заинтересовали его публикации, и потом, в Петербурге, где он сначала в 1905 году устроится работать в железнодорожную налоговую службу, благодаря появившейся в его жизни той самой фее, он свой статус повысит и получит шанс оставить работу в железнодорожной конторе и полностью заняться литературой. Началось сотрудничество с сатирическими журналами — «Зритель», «Журнальчик», «Леший», «Альманах», «Маски». Они открывались, закрывались, а Александр Гликберг понял, что он в этом деле всерьез и надолго, и в ноябре 1905 года появился псевдоним — Саша Черный. Вряд ли он метил в века, как его уже широко известный коллега по творческой профессии, у которого он явно позаимствовал привязанность к выбору цвета краски для псевдонима, но и у него уже была своя публика, и популярность среди читателей росла. И Белый, и Черный окажутся рядом у литературоведов будущего.
Добрые опекуны и феи позаботились о том, чтобы в 1906 году Саша Чёрный уехал в Германию, там он был слушателем лекций в Гейдельбергском университете. В 1908 году Саша вернулся в Санкт-Петербург, где как раз только открылся новый журнал «Сатирикон». Наряду с другими известными поэтами Саша Черный стал его постоянным автором. Более того, с 1908 по 1911 год он занимал позицию бесспорного поэтического лидера «Сатирикона». Благодаря журналу Саша имел всероссийскую славу. Корней Чуковский вспоминал: «Как только выходил новый номер журнала, читатели сразу же начинали искать в нём произведения Саши Чёрного. Каждая курсистка или врач, студент или инженер, учитель или адвокат могли рассказать их наизусть». Судьба не ошиблась в своем избраннике — он сумел заметить и оценить ее подсказки.
Его стихи были в то время у всех на устах, читатели любили их за искромётный юмор, особенную желчь и горечь, хлёсткую сатиру, простодушие и в то же время дерзость, остроумные замечания и наивную детскость, так что теперь газеты и журналы просто боролись за право печатать поэзию Саши, один за другим выходили в свет сборники его поэзии: «Невольная дань», «Всем нищим духом», «Сатиры». Но в 1911 году молодой поэт, возможно, чутко уловил новую подсказку времени и, почувствовав, что исчерпал себя в сатирическом направлении, ушел из этих журналов и дебютировал в детской литературе. Первые детские стихи и рассказы в
В 1914 году его призвали на фронт, но поэты — символисты, акмеисты, имаженисты и прочие иже с ними с войной имели свои счеты: они впадали в депрессию. Саша не стал исключением, а после выписки из госпиталя служил в медицинских частях, был смотрителем госпиталя в Гатчине, затем отправился на фронт с Варшавским сводным полевым госпиталем и помогал смотрителю в полевом запасном госпитале Пскова. И когда в этот город в конце августа 1918 года вступила Красная Армия, Саша покинул его вместе с другими беженцами. Революцию он не принял. Поэт делал попытки примириться с новой властью, но ничего не получилось, несмотря на то, что большевики предложили ему возглавить газету в Вильно. Чёрный выехал из России в 1920 году. Сначала он с супругой переехал в Прибалтику, в город Ковно. Затем перебрались в Берлин. Здесь он продолжал заниматься литературной деятельностью. Поэт сотрудничал с издательствами «Сполохи», «Руль», «Воля России», «Сегодня», «Грани». В 1923 году вышла книга с его стихами «Жажда», изданная на собственные средства. Все произведения были пропитаны тоской по родине, в их строках проглядывалось горестное положение поэта «под чужим солнцем». В 1924 году Чёрный переехал во Францию и здесь приложил все усилия, чтобы сделать популярной русскую литературу за границей, являлся организатором литературных вечеров, ездил по всей Франции и Бельгии с чтением своих стихов для русскоязычных слушателей, каждый год принимал участие в «днях русской культуры», выпустил детский альманах «Русская земля», в котором рассказывалось о русском народе, его истории и творчестве.
Было ли это уже нужно и интересно русскому народу, который продолжал жить без Саши, это вопрос отдельный. Но то, что он не переставал создавать новые хорошие произведения для детей, наверняка продлило и будет длить дальше его жизнь в литературе и среди новых и новых читателей.
Он умер в южной части Франции, где в 1929 году построил гостеприимный домик, куда приезжало много русских гостей, место его захоронения оказалось утерянным, но связь с русской читающей публикой пережила многое за прошедшие десятилетия, и есть по-прежнему — Саша правильно понял знаки судьбы, и они его не обманули.



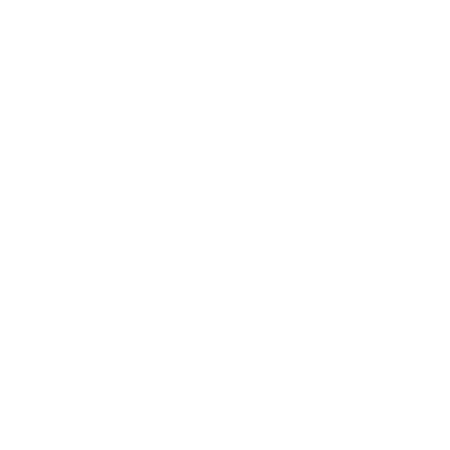 Яндекс.Дзен
Яндекс.Дзен



