О нем говорят по-разному. Одни как о поэте, драматурге, киносценаристе, кинорежиссере, киноактере, художнике, редакторе журналов «ЛЕФ» («Левый фронт»), «Новый ЛЕФ». Другим это кажется скучным, и они говорят о нем по-другому: этот человек не только поэт, который воспевал приход новой жизни, он также создал свою собственную революцию в письменной форме. «Бешеный бык» русской поэзии, «Мастер рифм», «новатор в поэзии», «индивидуалист и бунтарь против установленных вкусов и стандартов», один из основателей русского футуристического движения. Иногда и те и другие добавляют, что «нет более блестящей фигуры в расцвете русского авангардного искусства, которая следовала за Октябрьской революцией», и что после его смерти всем известный тогдашний вождь, от которого обычно слова доброго никто не мог дождаться, заявил, что Маяковский «был и остается лучшим и талантливейшим поэтом нашей советской эпохи».
Ему бы это, наверное, понравилось — он ценил всякие ментальные построения без цели их применения. Даже из своего происхождения сделал узелок, писал: «...Отец был казак, мать — украинка. Первый язык — грузинский. Так сказать, между тремя культурами...» Родился Маяковский в селе Багдати Кутаисской губернии (в советское время поселок назывался Маяковский) в семье лесничего. В 1902 году поступил в гимназию в Кутаиси, успел поучаствовать в революционной демонстрации, почитать агитационные брошюры. А уже в 1906 году вместе с мамой и сестрами переехал в Москву, где поступил в 4-й класс классической гимназии, где учился в одном классе с братом Б.Л. Пастернака Шурой. Доучиться не удалось, семья жила в бедности, платить за обучение было нечем, и в марте 1908 года он был исключен.
Было бы странно, если бы и в Москве энергичный юноша прошел мимо того, что определяло новое время, — революционной деятельности. Он познакомился с революционно настроенными студентами, начал увлекаться марксистской литературой, в 1908 году вступил в РСДРП, в 1908–1909 годах трижды арестовывался (по делу о подпольной типографии, по подозрению в связи с группой анархистов-экспроприаторов, по подозрению в пособничестве побегу женщин-политкаторжанок из Новинской тюрьмы). По первому делу был освобожден с передачей под надзор родителей по приговору суда как несовершеннолетний, действовавший «без разумения»; по второму и третьему делам был освобожден за недостатком улик. Естественно, что, находясь в тюрьме, Маяковский «скандалил», поэтому его часто переводили из части в часть, пока не добрались до Бутырской тюрьмы, где он и содержался в одиночной камере со 2 июля 1909 по 9 января 1910 года.
В тюрьме в 1909 году Маяковский снова стал писать стихи, хотя предыдущие гимназические опыты ему не нравились, отзывался он сам о них примерно так: «Получилось невероятно революционно и в такой же степени безобразно», «Вышло ходульно и ревплаксиво». Если вслушаться, то, наверное, можно догадаться, что от этого будущего «горлана и главаря» уже и сейчас никакой прямой рифмы в простоте не выпросишь. Но все же, несмотря на столь критичное отношение, Маяковский именно с этой тетрадки исчислял начало своего творчества. Из тюрьмы вышел в 1910 году, а в 1911-м вдохновился живописью и обучался в подготовительном классе Строгановского училища, тогда же поступил в Московское училище живописи, ваяния и зодчества — единственное место, куда приняли без свидетельства о благонадежности. Познакомившись с Давидом Бурлюком, основателем футуристической группы «Гилея», вошел в поэтический круг и примкнул к кубофутуристам. Первое опубликованное стихотворение называлось «Ночь» (1912), оно вошло в футуристический сборник «Пощечина общественному вкусу». А в ноябре 1912 года состоялось первое публичное выступление Маяковского в артистическом подвале «Бродячая собака». Дальше будет примерно так же: если в 1913 году выходит сборник, написанный от руки из четырех стихотворений и размноженный литографическим способом в количестве 300 экземпляров, то название у него с вызовом — «Я!». Если в 1916 году выходит первая книга, то называется «Простое как мычание», а если отдельные стихи, то на страницах футуристских альманахов «Молоко кобылиц», «Дохлая луна», «Рыкающий Парнас». Параллельно с «мычанием» и «рыканьем» поэт обратился к драматургии — была написана и поставлена программная трагедия «Владимир Маяковский». Декорации для нее писали художники из «Союза молодежи», а сам автор выступил режиссером и исполнителем главной роли. В феврале 1914 года Маяковский и Бурлюк были исключены из училища за публичные выступления, и в это же время, в 1914–1915 годах, Маяковский работал над поэмой «Облако в штанах». После начала Первой мировой войны Маяковский решил записаться в добровольцы, но ему не позволили, объяснив это политической неблагонадежностью. Вскоре свое отношение к службе в царской армии Маяковский выразил в стихотворении «Вам!», которое впоследствии стало песней.
Дальше будут гастроли в Баку в 1914 году — в составе «знаменитых московских футуристов» — и выступления и доклад о футуризме. В 1915 году на даче в подмосковной Малаховке состоится главное знакомство его жизни — с Лилией Юрьевной и Осипом Максимовичем Брик. В 1915–1917 годах Маяковский по протекции Максима Горького проходил военную службу в Петрограде в Учебной автомобильной школе. Выходят в печати его стихи и поэмы, звучит антивоенная лирика, появляются сатирические циклы, не забывает и о революционных темах: в 1917 году появится «Революция. Поэтохроника», подкрепляя их разными действиями в составе революционно настроенной публики — то арестовывает кого то, то ораторствует на площадях. Но при этом успевает в 1918 году сниматься в трех фильмах по собственным сценариям, а к осени 1918 года закончить пьесу «Мистерия Буфф» и проставить ее с режиссером Всеволодом Мейерхольдом к годовщине революции.
В 1919 году поэт возвращается в Москву и начинает активно сотрудничать в Российском телеграфном агентстве, знаменитом РОСТА (1919–1921), оформляет (как поэт и как художник) для РОСТА агитационно-сатирические плакаты («Окна РОСТА»), в 1919 году выпускает первое собрание сочинений — «Все сочиненное Владимиром Маяковским. 1909–1919», в 1918–1919 годах в газете «Искусство коммуны» рьяно пропагандирует мировую революцию и революцию духа, в 1920 году заканчивает писать соответствующую настроению и духу поэму «150 000 000», в которой отражена тема мировой революции.
В 1918 году Маяковский организовал группу «Комфут» (коммунистический футуризм), в 1922 году — издательство МАФ (Московская ассоциация футуристов), в котором вышло несколько его книг, в 1923 году — группу ЛЕФ (Левый фронт искусств), толстый журнал «ЛЕФ», которого с 1923 по 1925 год вышло семь номеров. И печатались там активно небезызвестные Асеев, Пастернак, Третьяков, Левидов, Шкловский. В 1922–1924 годах Маяковский совершил несколько поездок за границу — Латвия, Франция, Германия, писал очерки и стихи о европейских впечатлениях. В 1925 году состоялось самое длительное его путешествие: поездка по Америке, он посетил Гавану, Мехико и в течение трех месяцев выступал в различных городах США с чтением стихов и докладов. Годы Гражданской войны Маяковский считал лучшим временем в жизни, в поэме «Хорошо!», написанной в благополучном 1927 году, есть ностальгические главы. Хотя, возможно, это была не ностальгия по прошедшему, а тоска по несостоявшемуся в будущем — поэтическое и политическое чутье вполне могли уже подсказать ему хронику событий за три года до самоубийства. И не важно, что для кого-то это стало неожиданным «громом среди ясного неба», для самого поэта небо давно перестало быть ясным.
Но вплоть до самого рокового момента он активно работает: в 1925–1928 годах много ездил по Советскому Союзу, выступал в самых разных аудиториях, сотрудничал с газетами «Известия» и «Комсомольская правда», печатался в журналах «Новый мир», «Молодая гвардия», «Огонек», «Крокодил», «Красная нива» и других, работал в агитке и рекламе, в 1926–1927 годах написал девять киносценариев. Вряд ли эта реактивная многосторонняя деятельность была вызвана пониманием близкого конца, скорее всего, просто темперамент и жизненная программа не могли позволить поэту жить спокойнее и более бережливо по отношению к самому себе. Он вместил в свои 37 лет два, а то и три раза по столько и не стал бороться за светлую полосу в жизни, когда наступила темная. Многие и разные любови, частые обиды, неоправдавшиеся ожидания, взлеты и падения, заглядывание в будущее и отчаяние одиночества души — он решил, что этого уже достаточно было в его жизни, а от повторений ему явно становилось скучно, он этого не любил, а жить с «нелюбовью» отказывался. И отказался окончательно в 1930 году на своей квартире в Москве. Но при этом оставил за собой последнее слово в предсмертной записке: «...и, пожалуйста, не сплетничайте, покойник этого ужасно не любил...».



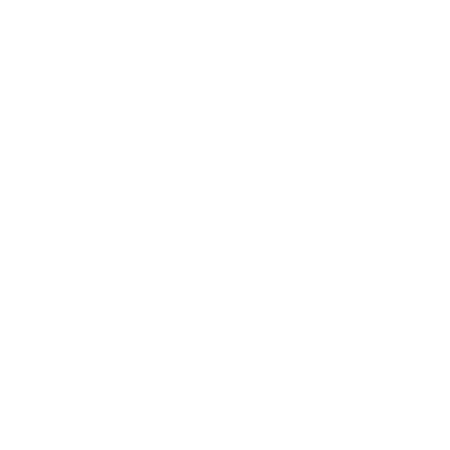 Яндекс.Дзен
Яндекс.Дзен



