
Кузмин Михаил Алексеевич
(1872 — 1936)Жить красиво, наверное, хотели бы многие, а уж люди творчества — непременно. Но только определение того, что это значит, у всех может быть разным. Михаил Кузмин с юного возраста формулирует для себя принципы красоты и восторга: «Я положительно безумею, когда только касаюсь веков около первого; Александрия, неоплатоники, гностики меня сводят с ума и опьяняют, или скорее не опьяняют, а наполняют каким-то эфиром; не ходишь, а летаешь, весь мир доступен, всё достижимо, близко...» Мировоззрение музыкального юноши, его мечты «о прекрасной ясности» основываются на учении античных философов-идеалистов о красоте, проникающей во все сферы жизни, будь то высокие или низменные, являющейся уникальной частью бытия, воплощающейся в совершенной любви и через неё преображающей человеческую природу. Знаменательная, любопытная, выходит, была атмосфера жизни в том районе города Ярославля в 1872 году XIX века в семье дворянина, морского офицера в отставке, члена Ярославского окружного суда, где и родился седьмой по счету ребенок, будущий композитор и поэт, понесший по жизни эти принципы. Он благополучно пронес их через годы обучения в гимназии города Саратова, куда вся семья переехала вместе с отцом, получившим новое место службы, а потом и в гимназии Санкт-Петербурга, где окончательно поселились в 1884 году. Юноша много занимается музыкой, пишет романсы, прологи, тексты и музыку к известным операм. Проведя лето 1891 года после окончания гимназии в усадьбе Караул в Тамбовской губернии у однокашника, будущего великого дипломата Георгия Чичерина, Михаил Кузмин поступает в Петербургскую консерваторию, где его учителями были Н.А. Римский-Корсаков, А.К. Лядов и Н.Ф. Соловьев, где он пишет много музыки — романсы и оперы —"Елена" (на основе «Античных стихотворений» Леконта де Лиля), «Клеопатра» и «Эсмеральда» (по сюжету «Собора Парижской Богоматери» Гюго), активно изучает немецкий и итальянский языки, познает французскую, немецкую, итальянскую музыку, расширяет свои литературные взгляды.
«Наполненный эфиром» молодой человек путешествует с нежными друзьями по всему миру в 1885 и 1887 годах — Греция, Египет, Италия. Плавание по Нилу, пирамиды Гизы, Константинополь, Афины, Смирна, Александрия, Каир, Мемфис, Рим, Мюнхен. И в это же время первые из сохранившихся опытов Кузмина в стихах и прозе. Вернувшись в Петербург, Михаил Алексеевич окончательно определяет свою двойственность не только в личной жизни, но как человека, у которого «русофильство и византизм органично сочетаются с виртуозно играющим европеизмом». Глазам удивлённых современников он представал как «изящный стилизатор, жеманный маркиз в жизни и творчестве — и в то же время подлинный старообрядец, любитель деревенской русской простоты, одевавший периодически армяк и картуз с «кучерской бородкой». Творческие же кризисы Кузмин ознаменовывает поисками своего предназначения, странствуя по скитам олонецких и поволжских раскольников, изучая традиции староведческого духовного пения, собирая древние рукописи с «крюковой нотацией», что означает особый тип нотной графики из глубин европейского Возрождения. Возможно, поэтому поэт в представлении современников выглядел фигурой загадочной — «отчасти ввиду неразрешимых противоречий своего мировоззрения», как изящно комментировали поклонники.
А в поклонниках не было нехватки. Хотя как литератор Кузмин дебютировал довольно поздно, его первая публикация в 1905 году в полулюбительском «Зелёном сборнике стихов и прозы» вызвала интерес корифеев поэзии, его привлекли к сотрудничеству в символистском журнале «Весы» и убедили заниматься прежде всего литературным, а не музыкальным творчеством. В 1907 году появились новые прозаические произведения, а в 1908 году вышла первая книга стихов «Сети». Дебюту Кузмина сопутствовал громкий успех и признание со стороны критиков-модернистов, он продолжает писать «нарочито офранцуженную» прозу до конца 1910 х годов, но также и романы, повести и рассказы, в основном искусно стилизованные под позднеантичную прозу или характерные для XVIII века плутовские романы странствий.
Кузмина-поэта влечет эллинистическая Александрия, французский «галантный век», закрытые общины русских старообрядцев, а также другие периоды художественного декаданса, доживания и распада цивилизации, прошедшей долгий и многотрудный путь культурного развития: «сложные, смутные настроения при дымных закатах в больших городах, до слёз привязанность к плоти, печаль кончившихся вещей, готовность на лишения, какая-то пророческая веселость, вакхика и мистика, и сладострастие — всё это представляется мне... в древних культах...».
И ведь эта вакханалия любви, красоты и декаданса смогла каким-то волшебным образом не столкнуться с вакханалией революционных жестокостей и беспределов — после революции Михаил Кузмин остался в России и со временем превратился в авторитетного мэтра для нового поколения ленинградских поэтов и литераторов. Ради заработка принимал участие в театральных постановках в качестве музыкального руководителя, писал театральные рецензии, сотрудничал как композитор с созданным в 1919 году Большим драматическим театром, в
В 1929 году чудом пробил стену идеологической цензуры последний его поэтический сборник «Форель разбивает лёд», стихи которого отличаются многообразием метрики, сновидческой образностью, исчезновением прежней жеманной лёгкости, сложными для интерпретации отсылками к гностицизму, на смену «прекрасной ясности» 1910 х годов приходят стихи затемнённые, герметичные, недоступные для окончательной дешифровки, свидетельствующие о движении автора в сторону сюрреализма.
Сам он свое место в творческой жизни собратьев и итог творчества определял, как всегда, без надрыва, свойственного этой публике, признавая себя эрудитом в трёх следующих областях: «один период в музыке: ХVIII век до Моцарта включительно, живопись итальянского квадроченто и учение гностиков». И, заболев воспалением легких, умер 1 марта 1936 года в Ленинграде, по воспоминаниям свидетелей, как и жил: «умер исключительно гармонически всему своему существу: легко, изящно, весело, почти празднично». Наверное, истинное поклонение красоте и ее истокам и вправду может творить чудеса в этом мире.


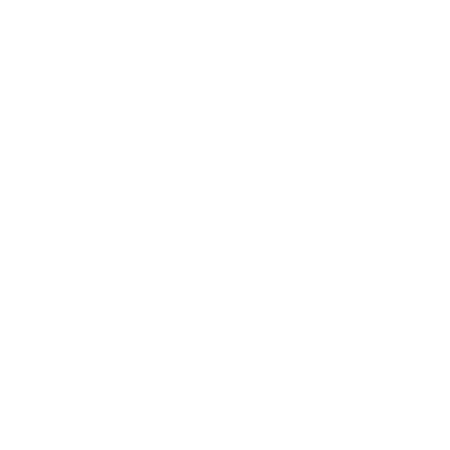 Яндекс.Дзен
Яндекс.Дзен



