
Ходасевич Владислав Фелицианович
(1886 — 1939)Самый младший, шестой и последний, ребенок в московской интеллигентной, творческой семье, где отец, обедневший польский дворянин — художник и фотограф, а мать — дочь известного литератора, конечно, не мог не пойти по их стопам. Художник из Владислава не вышел, но с литературой получилось лучше — свои первые стихи написал в шесть лет, поступил в гимназию в Москве и увлекся поэзией Брюсова и Бальмонта, а в 1904 году начал учиться в Московском университете на юридическом, а после — историко-филологическом факультетах. С середины 1900 х годов Ходасевич находился в гуще литературной московской жизни: посещал Валерия Брюсова, Литературно-художественный кружок, литературные вечера и салоны, печатался в журналах и газетах, в том числе в модных и популярных «Весах» и «Золотом руне».
До рубежа 1917 года, разрезавшего почти все жизни интеллигенции страны на «до» и «после», он выпустил две книги стихов в 1908 и 1914 годах, стал профессиональным литератором, зарабатывающим на жизнь переводами, рецензиями и фельетонами, успел съездить полечиться в Европу, как это могли позволить себе в ту пору почти все литераторы, а лето 1916 и 1917 годов провести в Коктебеле, у поэта Максимилиана Волошина.
В 1917 году Ходасевич с восторгом принял Февральскую революцию и поначалу согласился сотрудничать с большевиками после Октябрьской революции, но быстро пришёл к выводу, что «при большевиках литературная деятельность невозможна», и решил «писать разве лишь для себя».
«Для себя» не всегда получалось, и когда в 1920 году вышла его третья книга стихов, известность его упрочилась. Он успел послужить в репертуарной секции театрального отдела Наркомпроса в


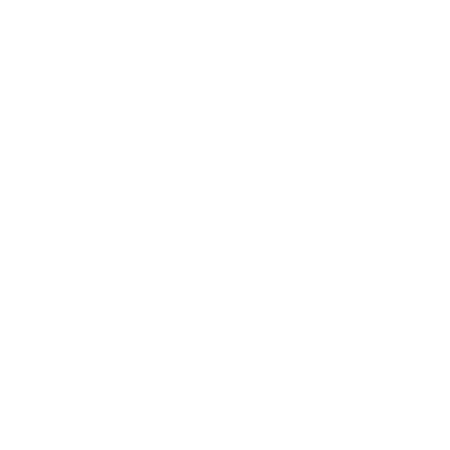 Яндекс.Дзен
Яндекс.Дзен



