
Пастернак Борис Леонидович
(1890 — 1960)Вряд ли хоть кто-то из тех, кто знает что-то о Борисе Пастернаке, может сомневаться, что родился он в семье высококультурной, респектабельной и творческой. Семья, живущая в центре Москвы, всегда гостеприимно принимала людей искусства — поддерживала дружбу с известными художниками Исааком Левитаном, Михаилом Нестеровым, Василием Паленовым, Сергеем Ивановым, Николаем Ге, в доме бывали музыканты и писатели, в том числе А.Н. Скрябин и С.В. Рахманинов, Л.Н. Толстой, Райнер Мария Рильке . А сам Борис еще в 13 лет, под влиянием композитора А.Н. Скрябина, увлекся музыкой, которой серьезно занимался в течение шести лет. С 1901 по 1908 год мальчик будет учиться в московской гимназии и вместе с выпускными экзаменами одновременно готовиться к экзамену по курсу композиторского факультета Московской консерватории. Борис вообще умел трудиться, не рассчитывая только на одаренность, сделав своей жизненной установкой стремление во всем «дойти до самой сути, в работе, в поисках пути...».
Путь будет довольно прямой — с 1908 года учится в Московском университете то на юридическом факультете, то на философском отделении историко-филологического факультета, летом 1912 года изучал философию в Марбургском университете в Германии. Путешествовал с семьей по Европе. А вернувшись в Москву, он активно участвует в литературной жизни столицы — завсегдатай кружка символистского издательства «Мусагет», литературно-артистического кружка Юлиана Анисимова и Веры Станевич, из которого выросла недолговечная постсимволистская группа «Лирика». С 1914 года Пастернак примыкал к содружеству футуристов «Центрифуга» (куда также входили другие бывшие участники «Лирики» — Николай Асеев и Сергей Бобров). В этом же году близко знакомится с другим футуристом — Владимиром Маяковским, чья личность и творчество оказали на него определенное влияние. Позже, в
Первые стихи Пастернака были опубликованы в 1913 году (коллективный сборник группы «Лирика»), первая книга — «Близнец в тучах» — в конце того же года, и именно после «Близнеца в тучах» Пастернак стал осознавать себя профессиональным литератором. В 1916 году выйдет новый сборник стихов «Поверх барьеров», но именно эти зиму и весну 1916 года Пастернак провел на Урале, под городом Александровском Пермской губернии, в поселке Всеволодо-Вильва, занимаясь совсем не стихами, а приняв приглашение поработать в конторе управляющего Всеволодо-Вильвенскими химическими заводами помощником по деловой переписке и торгово-финансовой отчетности. И талантливый молодой человек использовал эту возможность посмотреть глубины России в своем творчестве — считается, что именно Пермь станет прообразом города, описанного позднее в романе «Доктор Живаго». В этом же году поэт побывал на Березниковском содовом заводе на Каме.
Эта немного сторонняя для Пастернака деятельность сменяется опять литературными буднями, изданием сборников, книг, стихов и прозы. На конец 1920 х — начало 1930 х годов приходится даже короткий период официального советского признания творчества Пастернака, он принимает активное участие в деятельности Союза писателей СССР и в 1934 году выступает с речью на его первом съезде, на котором его даже называют лучшим поэтом Советского Союза, а его большой однотомник с 1933 по 1936 год ежегодно переиздается. Жизнь вроде бы балует: рождаются дети, постоянно в приятных разъездах — в
Но судьба пока дает ему время. В военные годы поэт с 1942 по 1943 год провел в эвакуации в Чистополе в Татарстане. В 1943 году выходит книга его стихотворений «На ранних поездах», включающая четыре цикла стихов предвоенного и военного времени. Он продолжает писать, и поэтому, когда в 1952 году у него случился инфаркт, он был почти спокоен, писал друзьям: «...То немногое, что можно было сделать среди препятствий, которые ставило время, сделано...» Он ошибался, недооценив силу еще одного своего творения, над которым работал в течение десяти лет, с 1945 по 1955 год, — романа «Доктор Живаго». Это широкое полотно жизни российской интеллигенции на фоне драматического периода от начала столетия до Великой Отечественной войны. Сам писатель считал его вершиной своего творчества как прозаика. По поводу «вершины» с писателем согласились многие — заграничные издательства в Италии в 1957 году, а потом в Голландии и Великобритании, опубликовавшие роман, Центральное разведывательное управление США, которое начало раздавать книгу бесплатно на всех фестивалях, выставках, выбирая особенно читателей из России, а также дружная литературная общественность, признавшая книгу достойной быть выдвинутой на Нобелевскую премию. И поэт и писатель стал лауреатом этой премии в 1958 году. Не надо иметь очень богатое воображение, чтобы представить весь накал начавшейся вслед за этим травли и со стороны госвласти, и со стороны добрых братьев — литераторов. Выстоять не удалось бы и здоровому, а уж больной и ранимый поэт был обречен. Он ушел из жизни в июне 1960 года, а написанный им роман, затрагивающий сокровенные вопросы человеческого существования — тайны жизни и смерти, вопросы истории, христианства, остался с потомками, так же как и все признанное почитателями и литературоведами великим творчество Бориса Пастернака.



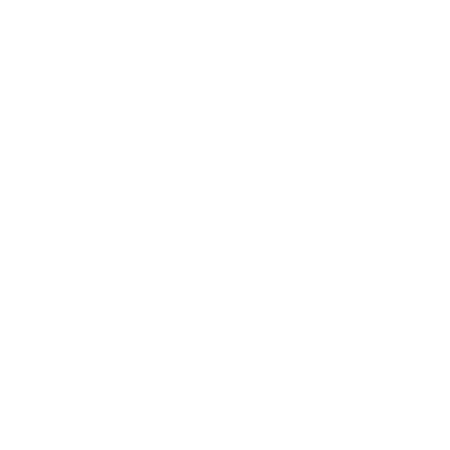 Яндекс.Дзен
Яндекс.Дзен



