
Гумилев Николай Степанович
(1886 — 1921)Вывернуть наизнанку действительность, в которой проживаешь, для этого недюжинный и уникальный талант нужен. Поэт, воин, герой, путешественник и исследователь Николай Гумилев готов был делиться таким талантом со всеми окружающими. Далеко не все были равновелики таким подаркам человека, искавшего приключений, событий, опасностей и рисков в каждом дне и каждом деле. В конце концов он-таки заставил современников и потомков говорить о себе с конца, нарушая хронологию своей жизни, а именно с 1921 года, когда по обвинению в участии в совершенно недоказанном заговоре против советской власти поэт был расстрелян в неизвестном месте под Петербургом. Эта внезапная концовка настолько поразила общество, что именно с ней чаще всего ассоциируют образ поэта, обрамленный его приключениями, путешествиями, геройскими сражениями и участием в экзотических мероприятиях. И мало кто обращает внимание на один факт из деятельности Николая Степановича — именно тогда, перед неожиданным своим расстрелом в 1921 году, он опубликовал один из сборников стихов, названный «Шатёр», который написан был на основе впечатлений от путешествий по Африке. Этот сборник должен был стать первой частью грандиозного «учебника географии в стихах», в котором Гумилев планировал описать в рифму всю обитаемую сушу. Грандиозный учебник не состоялся, но код всей его деятельности остался — теперь можно было смело нанизывать сотни географических названий, где он бывал, на строчки стихов и воспоминаний.
А начало пути было обычным — в дворянской семье кронштадтского корабельного врача в одноименном городе родился слабый, болезненный мальчик, которого постоянно мучили головные боли и он плохо переносил любой шум. Его обучение в гимназиях можно было бы назвать репетицией его будущих скитаний и переездов: в 1894 году он поступает в Царскосельскую гимназию, но через несколько месяцев переходит на домашнее обучение, чтобы после переезда родителей в Царское Село осенью 1895 года пойти в новую гимназию, а в 1900 году из-за болезни брата переехать на Кавказ и учиться там в двух разных Тифлисских гимназиях, возвратиться с родителями обратно в
И началось: сразу после гимназии Николай едет учиться в Сорбонну, слушает лекции по французской литературе, изучает живопись и много путешествует по Италии и Франции, знакомится с французскими и русскими писателями, переписывается с Брюсовым, которого считал своим учителем и которому посылал свои стихи, статьи, рассказы. В 1907 году Гумилёв опять в России, чтобы пройти призывную комиссию. И оказаться в Севастополе, чтобы потом написать все тому же Брюсову из не пойми каких краев туманные строчки — «...после нашей встречи я был в Рязанской губернии, в Петербурге, две недели прожил в Крыму, неделю в Константинополе, в Смирне, имел мимолётный роман с какой-то гречанкой, воевал с апашами в Марселе и только вчера, не знаю как, не знаю зачем, очутился в Париже...». Вторая поездка в Левант — страну восточной части Средиземного моря, не заставила себя ждать: в 1908 году его ждут Синоп, Стамбул, Греция, Египет, где он вдохновился Каиром с его волшебным садом Эзбикие и благополучно вернулся в Петербург.
И если у кого-то, может, уже голова пошла кругом от его убеганий от скучной жизни, то для него это только начало. Потому как в 1909 году году Гумилёв разворачивает свое еще с детства желанное общение с далекой Африкой, выехав в составе академической экспедиции в пустыню, где неоднократно путешественники подвергаются нападению аборигенов, переправляются в корзинах на веревках через реку, кишащую крокодилами, и возвращаются в Россию только в феврале 1910 года. Чтобы уже в сентябре уехать опять и быть уже настоящим исследователем — собирать местный фольклор и предметы быта, изучать обычаи и традиции, заходить в дома, выспрашивать о назначении неизвестных ему предметов, описывать нравы местных народов, фотографировать, охотиться на диких зверей. Вернулся Гумилев в марте 1911 года, больной тропической лихорадкой. И пока врачи уверяли родных поэта, что по состоянию здоровья он больше не может ездить в Африку, Николай Степанович перерабатывал свои африканские впечатления и обдумывал план новой экспедиции. В которую и отправился сразу же после выздоровления в апреле 1913 года. Все материалы, собранные в экспедициях по восточной и Северо-Восточной Африке, поэт привёз в Музей антропологии и этнографии (кунсткамеру) в Санкт-Петербург, и эта богатейшая коллекция хранится до сих пор. Причем Гумилев становится одним из крупнейших исследователей Африки, успевая в короткое время между поездками издавать сборники стихов, посещать знаменитую «башню» Вячеслава Иванова и Общество ревнителей художественного слова, организовывать иллюстрированный журнал по вопросам изобразительного искусства, музыки, театра и литературы «Аполлон», в котором начинает заведовать литературно-критическим отделом, активно участвовать в основании «Цеха поэтов», в который кроме Гумилёва входили Анна Ахматова, Осип Мандельштам, Владимир Набут, Сергей Городецкий, Елизавета Кузьмина-Караваева, Михаил Зенкевич и другие. При этом в 1912 году Гумилёв успевает заявить о появлении нового художественного течения — акмеизма, в которое оказались включены члены «Цеха поэтов», и между делом поступает на историко-филологический факультет Петербургского университета, где изучает старофранцузскую поэзию.
Новое течение — акмеизм провозглашало материальность, предметность тематики и образов, точность слова, его появление вызвало бурную реакцию, по большей части негативную, но в том же 1912 году акмеисты открывают собственное издательство «Гиперборей» и одноимённый журнал, а Гумилев успевает стать отцом — в октябре 1912 года в семье Николая и Анны Ахматовой родится сын.
Но остановить его от путешествий не смогли бы ни семья, ни творческие прорывы, тут требовались особые обстоятельства, и они случились — Первая мировая война как будто ждала, когда поэт начнет скучать и в семье, и в окружающем обществе, и в начале августа 1914 года Гумилёв записался добровольцем в армию. Будут теперь учения и подготовка в разных полках со звучными названиями, будут ночные разведки, и разъезды, и тяжелые бои, за которые Николай Степанович будет награжден двумя Георгиевскими крестами и знаками отличия, будут новые воинские звания и тяжелые болезни — воспаления легких, горячки, лечения в госпиталях, после которых он немедленно упорно возвращался на фронт.
В новой, уже послереволюционной России он тоже успеет побывать — в


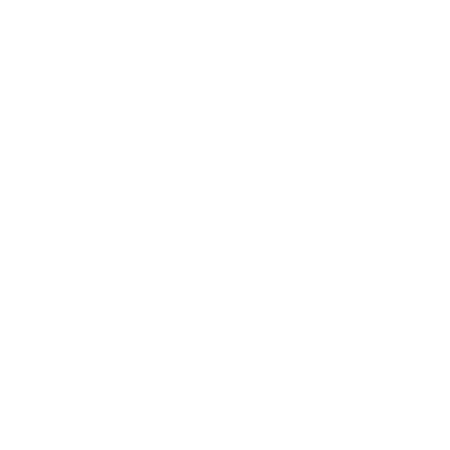 Яндекс.Дзен
Яндекс.Дзен



